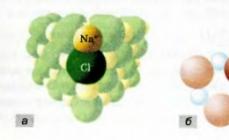Тема семинара: Теоретические основы деструкции в обществе (на материале истории России XIX века
Докладчик: Андрей Алексеевич Трошин
А.Трошин: Предметом моего доклада является полное уничтожение социальной структуры, которое детерминировано ею самой. Оно может быть или целесообразным для общества — в том случае, если подготовлено историей этого общества, или случайным — какая-нибудь катастрофа и адаптация к ней. В данном докладе меня интересует деструкция как целесообразное социальное действие.
Я следую максимальной методологической редукции: все свожу к системе передачи информации. Под информацией понимается любое различение, производящее любое различение . Деструкция мною трактуется как процесс сброса, уничтожения социальной информации, которая стала обществу не нужна, которая не адекватна ситуации, не способна адаптировать человека к условиям внешней жизни. Например, знания о стоянии в очередях или о проведении первомайских демонстраций в данных условиях не актуальны . Если некие социальные группы руководствуются именно такой информацией, то очевидно, что общество должно эту информацию каким-то образом изолировать, уничтожить. Как чистая идея информация не уничтожается. Поэтому смысл деструктивных процессов — уничтожение носителей информации, при котором должно произойти снижение внутрипопуляционного давления . То есть резко снижается число коммуникаций, и при этом та информация, которая была доминантной для общества, утрачивает свой статус, а маргинальная информация актуализируется и в условиях деструкции может занять лидирующее место в создании нового общества.
Существует три возможные формы деструкции . Первая — забывание , которое я трактую как утрату личности, личной идентичности, части личной идентичности и замена ее другой. Это единственный вид деструкции, который имеет источник возникновения на личностном уровне. На уровне общества, если забывание не срабатывает, последовательно включаются два механизма. Дегенерация — нарушение воспроизводства (обычно — человеческого воспроизводства, но можно это слово применить и к нарушению воспроизводства символических объектов). Высшая форма деструкции, наиболее полная и совершенная — механическое сокращение численности популяции.
Для личности деструктивность — это компонент культуры, побуждающий отказываться от сложившихся социальных, поведенческих, символических структур. Все общественные процессы редуцируются к действиям. Исходя из этого, предметом рассмотрения могут быть только действия и оформление этих действий в систему. Чтобы оградиться от странного характера примеров, которые будут приведены, я защищаюсь основным постулатом социологии Дюркгейма: ни один институт, созданный человеком, не мог основываться на заблуждении или лжи. Если бы он не основывался на естественной природе вещей, он бы не существовал. То есть в любых, даже самых странных действиях есть какой-то смысл.
Если деструкция — это санкция на действия, то каким образом она передается в обществе? Тут логический парадокс: если деструкция — разрушение общества, то и способность к разрушению должна передаваться. Если мы определили деструкцию как разрушение социальной структуры, то преемственность деструктивных действий может основываться только на отношении к отдельному человеку. Ценность человеческой жизни как онтологическое понятие — основа социокультурной деструкции. Мне кажется, что связанные с этим санкции и являются подлинным и единственным маркером этноса. Понятие этноса на самом деле может быть выведено именно применительно к культуре, на основе того, какие именно социокультурные санкции в ней существуют.
Первый спорный тезис: в наиболее чистом виде деструктивные санкции (онтологическая ценность человеческой жизни) проявляются в отношении к мертвому . Все читали известный перевод книги Ф.Арьеса "Человек перед лицом смерти", где в предисловии сказано: хотите узнать подлинную ценность человеческой жизни, посетите кладбище. В русском обществе все очевидно. Единственный обычай русских, который можно проследить по источникам за более чем тысячелетний период, и на основе которого мы, кстати, можем доказать связь поколений, это так называемый культ заложных покойников . У русских изначально умершие делились на два разряда — умершие естественной смертью (в широком смысле — родители) и умершие неестественной смертью (домовики, мертвяки, заложные покойники), которых нельзя было хоронить. Их выносили в болота или овраги, где они и должны были "доживать" положенный срок. После христианизации возник очень серьезный конфликт между навязанной государством обрядностью и реальным этническим поведением. Он нашел свое странное разрешение в институте "скудельниц". Скудельница — место, выделенное для братской могилы, а точнее — морга, где в течение года складывались все, кто умер от болезни, погиб, а потом, раз в год, закапывались. Это был очень важный институт, высшая форма общественного покаяния. И когда Екатерина II в 1771 году отменила этот институт в связи с эпидемией чумы, то в русском обществе начала происходить очень странная вещь. Этническое сообщество ответило на эту меру массовым осквернением могил. В русском праве до 1771 года речь шла только о "мародерстве", но количество оскверненных могил после отмены скудельницы было столь массовым, что уже в 1772 году в полном собрании законов вводится понятие "святотатство" в отношении ограбления могил. Оно каралось битьем кнутом на площади или на самом месте сделанного преступления, вырыванием ноздрей, клеймением и ссылкой на каторжные работы. В течение XIX века наказание смягчается. В уложении о наказаниях 1845 года за разрытие могил как суеверных действиях предусматривалась ссылка на поселение в Сибирь. То же деяние с целью ограбления каралось каторгой (до 12 лет), а по шалости или пьянству — от четырех до восьми лет тюрьмы. А в уголовном уложении 1903 года это заключение в тюрьму на срок не свыше шести месяцев. Но либерализация наказания не означала утрату его необходимости. На конец XIX века приходится пик достоверно описанных случаев исполнения обряда этого культа. Последнее уголовное дело такого рода было в 1914 году. Но известно, что и в двадцатых годах подобные явления имели место.
Любая неудача в обществе (неурожай, массовые заболевания) вызывала поиск объекта компенсаторного насилия. Смысл деструкции — универсальный ответ сообщества. Ресурсом ответа является не внешняя среда, не рациональные действия по отношению к среде, а члены самого общества, даже умершие, в этом заключается универсальность — чтобы не случилось, у сообщества всегда есть объекты компенсаторного насилия .
Поначалу это были умершие неестественной смертью. Приведу типичный случай. Летом 1864 года в Саратовской губернии стояла сильная засуха, хлеба и травы горели на корню. Однажды утром рабочий-арендатор заметил в господском пруду торчащие из воды ноги. Из воды вытащили гроб. Оказалось, что на местном кладбище разрыта могила. Покойник был сильным пьяницей. По народному суеверию, чтобы вызвать дождь, надо утопить покойника пьяницу. Когда русским мужикам в Нижнем Поволжье не хватало покойников-пьяниц, им нашли замену — лягушек. В засуху их развешивали на деревьях. До сегодняшнего времени сохранились синкретные формы этого культа: детское поверье — если раздавишь лягушку, то пойдет дождь.
Трансформация культа заложных покойников стала основой для рутинной практики, распространенной в России. И реальная жизнь русского сообщества основывалась на культуре магии и колдовства, выполнявших в обществе функции объектов компенсаторного насилия и источников детерминации для различных форм массовых психопатий. ВсT это доказывается на многочисленных примерах. Сейчас издается много литературы на этнографические темы. Но эта литература не снабжена теоретическими комментариями и то, что в ней излагается, производит ужасающее впечатление.
Это бесконечная черная месса . Например, обычай "опахивания смерти" — основная форма поведения русских женщин при эпидемиях любого происхождения. Существует несколько десятков вариантов этого культа. В "Воронежском литературном сборнике" (Воронеж, 1861) описывается один из них. Женщины и девушки в одних рубашках с распущенными волосами собираются в тайном месте. Выбрав из своей среды трех вдов, дают первой образ божьей матери, второй свечи и ладан, а третью запрягают в соху, за которой ставят двух беременных женщин. Процессию замыкают все остальные женщины и девушки, собравшиеся для свершения обряда, толпа обходит по околице селение, проводя глубокую борозду. Действо сопровождается пением. Все живое, что встречается им на пути, убивается (по поверью болезнь принимает вид не только животного, но даже человека). Можно привести десятки уголовных дел о зверских убийствах женщинами несчастных прохожих.
В конце XIX века в России существовали фаллические карнавалы . Восьмидесятые годы, Кострома. Так называемые похороны Ярилы. Это женская мистерия, при которой или хоронят куклу с развитыми гениталиями, или гоняют по городу какого-нибудь нанятого, как сейчас сказали бы, бомжа, которого затем "топят" в Волге.
Исходя из вышеизложенного, на основе переживаний культа заложенных покойников и чудовищной веры в колдовство, которой определялась русская жизнь, социокультурная деструкция была представлена в пяти типах санкций, характерных для всего русского этноса (в различных вариантах). Я их условно делю на дегенеративные санкции и санкции, направленные на механическое сокращение популяции.
Дегенеративных санкций две: скотоложество и мужеложество . Это требования культурного поведения, которые заставляют людей заниматься именно такими формами социального поведения. Это описывается в работе В.И.Жмакина "Русское общество XVI века", И.В.Преображенского — "Нравственное состояние русского общества в XVI веке…" и др. До начала XVII века основной формой поведения русских мужчин был гомосексуализм как гендерная норма. Мужчины обществу женщин предпочитали маленьких пухленьких мальчиков. В монастыри было запрещено пускать мальчиков. Профессор Н.Д.Сергеевский пишет, что двухсотлетнее отставание в развитии школы в России объясняется чудовищной педофилией у монахов. Профессор В.С.Иконников доказывает, что русский гомосексуализм имеет два источника (А.П.Щапов, С.С.Шашков об этом писали). Это, во-первых, влияние кочевых народов с их презрительным отношением к женщине как к обузе и, во-вторых, — византийское христианство. Вся идеологическая программа гомосексуализма шла из Византии. Уже в Изборнике Святослава (1073 г.), переведенном с греческого, встречается статья о женщинах, в которой, начиная с падения Евы и основываясь на целом ряде библейских примеров, приводится самый отрицательный взгляд на женщину. Эти рассуждения повторяет Даниил Заточник и другие.
Первой попыткой борьбы с гомосексуализмом, которая провалилась полностью, был Стоглав . Официально на Вселенских московских соборах в конце XVII века был впервые запрещен гомосексуализм. Это каралось сожжением на кострах. По свидетельству иностранцев, на льду Москвы-реки одновременно горело по несколько сот костров, на которых сжигали гомосексуалистов. Были запрещены иконы гомосексуального содержания (Господь Бог Саваоф, Отечество и др.). Традиционный гомосексуализм остался и в XIX веке. Классические исследования гомосексуализма были проведены В.О.Мержеевским, Б.И.Пятницким. В 60-х годах известны массовые дела в Петербурге о проституции молодых банщиков на артельных началах и о проституции извозчиков. Такие явления не вызывали особого протеста у русского крестьянина, кроме старообрядцев.
В России с XII по XVI век известны массовые психопатии гомосексуального толка, когда женское население вырезалось полностью. Этот особенно характерно для верхнего и среднего Поволжья. Женоненавистничество как социокультурное оформление гомосексуализма и культ заложных покойников — это два факта, которые индуцируют массовые психопатии и явились основой такого феномена как кликушество (крайне низкий статус женщины и вера в колдовство).
Выделяются еще три формы санкций, направленных на механическое сокращение популяций: детоубийство, убийство, каннибализм. Все эти формы поведения традиционны для русского общества в прошлом. Что касается каннибализма, то все секты хлыстов и скопцов основывались на ритуальном каннибализме. Впервые об этом писал святой Дмитрий Ростовский (XVII век), в XVIII веке об этом свидетельствуют следственные дела, которые вел ректор Славяно-греко-латинской академии Ф. Лопатинский, а в XIX веке — следственные дела о людоедстве у скопцов (о чем популярно писал П.И.Мельников-Печерский). В ХХ веке известны классические исследования в школе Португалова, например, криминологические работы Елены Кожевниковой, где она доказывает, что утрата эмоций отвращения, с одной стороны, индуцируется культурными формами (каннибализм вынуждается культурной традицией), а с другой стороны, это механизм, который запускает "обратное развитие" этнических групп.
Что касается детоубийства, то есть масса его описаний, например, работа А.С.Пругавина "Самоистребление" (журнал "Русская мысль, 1895 г., книги I, II, VII). В ней описан классический случай детоубийства: в мае 1870 года в деревне Клюкино Шадринского уезда Пермской губернии крестьянка убила свою единственную дочь году с небольшим от роду. Эта жертва по ее убеждению должна была спасти не только ее дочь, но и ее саму, "великую грешницу". Однажды утром, решившись, она бросила ребенка в горящую печь. Убедившись, что ребенок умер, она прославила Бога, вышла из избы и занялась обычными делами по хозяйству. Когда вернувшаяся домой сноха нашла труп ребенка и стала упрекать эту женщину, та ответила: "Полноте, молитесь-ка лучше Богу, пресвятой Богородице да матушке Аллилуйе".
Так называемая "Песня об аллилуевой жене милосердой" — памятник духовной культуры, известный на протяжении полутора веков. Известно несколько тысяч уголовных дел, связанных с этим памятником. В этой песне "аллилуева жена" бросает в печь своего ребенка, чтобы принять на руки Христа и спасти его от преследования антихристов. Когда она стала убиваться по ребенку, Христос велел ей смотреть в печь, и она увидела там "Вертоград прекрасный", где гуляло и распевало песни ее чадо. И Христос в этой песне призывает всех православных христиан бросаться ради него в огонь и бросать туда своих безгрешных младенцев.
Священное писание воспринималось как документ прямого действия . На чем основывался каннибализм скопцов? Сказано — причащаться плотью и кровью . Они воспринимали это буквально. Есть детоубийства на основе сюжета жертвоприношения Авраама — топорами рубили детей.
Известна масса уголовных дел, когда убийства колдунов и колдуний никак не наказывались. Или наказывались таким образом: три месяца прополки огорода — церковное покаяние. И это все было в XIX веке, вплоть до начала ХХ-го века.
Что же происходит в обществе? Теория классика нашей масонской социологии Григория Вырубова такова: религия есть полный кодекс жизни, общество не может одновременно жить по двум добровольно принятым кодексам жизни, поэтому русские — это язычники, а не христиане и христианства никогда на самом деле на Руси не было. Современная теория звучит так: существует два типа культур (как методов управления обществом): полихронные и монохронные. Обычно известны монохронные культуры. Что это такое? Время — это не абсолютная данность, время — это референция, оно придумывается людьми. Монохронные культуры, это культуры, которые управляются обычным календарем. Классический немецкий бюргер — образцовый пример монохронной культуры, когда формальный календарь с церковными праздниками и сельскохозяйственными делами управляет всей жизнью общества. А русские — это пример полихронной культуры, когда референция времени идет в нескольких измерениях. Есть формальный календарь и есть нечто трансцендентное . Нечто подобное было, например, у испанцев. Но русские интересны тем, что это неустойчивый тип полихронной культуры. Тут особое состояние, которое можно назвать ахронией: это полное отсутствие референции времени. При переходе к массовым психопатиям и сектантству надо понимать эту культурную особенность, когда в обществе время "останавливалось" полностью .
Кликушество распространено на Руси с XVI по ХХ век. Есть масса прекрасных работ в школе Бехтерева, это доказывающих. Последняя работа — 1928 год (Н.П.Бруханский), когда с кликушеством в Московской губернии борются комсомольские организации. При малейшей неудаче в обществе начиналось индуцированное помешательство, точнее — иллюзия помешательства. Женщины начинали биться в историке, кататься по полу. При этом у женщин происходит полное прекращение способности вести домашнее хозяйство, способности к деторождению.
Есть еще один очень важный факт. Русское общество основывалось на наркомании. Широко была распространена культура спорыньи . Там три действующих вещества. Одно из них — антагонист адреналина, приводящий к истероидному климаксу у женщин. Со спорыньей работа "спорилась", спорынья считалась главным достоинством хлеба. С этим нельзя было бороться. Н.Н.Реформатский описывает случаи стопроцентного поражения жителей спорыньей. Выделялось семь форм психопатии на фоне отравления спорыньей. Ни одного здорового человека не было . То есть факторов, вызывающих психопатии — множество, в том числе и поражения нервной системы вызванные спорыньей. Случалось, что за два-три года деревня вымирала полностью. Мужчины мигрировали, бросая семьи, женщины и дети умирали с голоду или становились нищими. Но кликуши постоянно присутствуют в русском обществе.
По мнению специалиста по психопатиям П.И.Якобия, единственного, кто попытался написать антропологическую историю России, каждый год более половины населения было охвачено теми или иными формами массовых психопатий . И когда мы пытаемся объяснить невероятную распространенность сектантства в России, довольно легко можно доказать, что сектантство и являлось следствием массовых психопатий.
В России сложилась неустойчивая полихронная культура, поведение имело эмоциональную детерминированность, а не рациональную. При этом русское сообщество представляет собой ситуацию двойной изолированности: территориальной и коммуникативной. На самом деле коммуникации были столь сильно развиты в этническом сообществе, что выполняли функцию изоляции этого сообщества, поскольку информация была переизбыточной. Если вы будете изучать русский фольклор, там слишком много информации — любые тексты существуют в нескольких десятках вариантов, там огромное количество сюжетов.
То есть реальное поведение было перерегулировано нормами, которые подавались в этом массиве информации через требования сказки, песни, обряда, обычая и т.п. Таким образом, все это привело к относительной перенаселенности русского общества. В сельской местности сложилась ситуация мегаполиса, характерная для больших городов — появились маргинальные структуры. И этого не было в Европе. Эта переполненность закрытой системы, ее эмоциональная, информационная перегруженность приводила к массовым психопатиям . Отсюда странные явления с рождаемостью в русских деревнях (работы Ф.Эрисмана, работа А.Шингарева "Вырождение русской деревни" и др.).
Оказывается, что многодетные семьи в русской деревне — это миф. В течение XIX фактический прирост населения происходил только за счет миграции . Численность коренного населения снижалась за счет того, что при огромной рождаемости детская смертность была еще большей, а также за счет массовых психопатий. Миграция шла из Белоруссии, Украины, Сибири. Фактически та же картина была в XVII веке, когда весь великорусский этнос сменился полностью. Он не исчез биологически, но культурное наследие прервалось. Скажем, Ярославская область — там живут, как ни странно, выходцы из Белоруссии, из Малороссии. (Мы не берем казачьи районы и русский Север — Вологодскую губернию. Там сложилась специфическая ситуация.) Это привело к крайней неустойчивости социальной структуры. И все наследие — это наследие санкций деструктивного характера. Структура как таковая не наследовалась.
Если мы хотим в полном объеме понять феномен русской революции, то эту особенность необходимо принять во внимание. В чем смысл построения коммунизма? В уничтожении избыточного крестьянского населения. Это был единственный возможный выход — механическое сокращение численности популяции (то, что пытался сделать Столыпин путем миграции). Общежития, коммунальные квартиры, обобществление женщин — все это имело место быть лишь в очень краткий промежуток времени.
Низкая культура создает относительный переизбыток населения, где значительная часть прервала связь с другими.
Вопросы:
А.Давыдов: Каково было отношение православия к этим деструктивным процессам?
А.Трошин: Православия как единой структуры и как единой идеологии не существовало. В XIX веке в православии была интеллектуальная элита, прекрасно понимающая картину и пытавшаяся бороться со скверной внутри себя, собственно, еще с XVII века. Но не даром Бехтерев требовал закрытия в России всех монастырей. В них имели место те же самые явления, что и в обществе: кликушество, насилование девочек.
Р.Максудов: Какой смысл Вы вкладываете в понятие деструктивность? Что является сегодня культурным условием деструкции постхристианской культуры (в том числе механического сокращения населения при Сталине)?
А.Трошин: Смысл деструкции — уничтожение носителя ненужной информации, уничтожение ненужной информации вообще.
Деструкция может происходить в трех формах. Мягкая форма — забывание (что у нас в обществе сейчас и происходит), далее — дегенерация, и крайний механизм — механическое сокращение. На примере истории сектантства это легко просматривается. Деструкция существует как санкция, то есть требование общества что-то делать, как традиционная форма поведения.
Для меня культура — биологический признак человека, и ничего другого, кроме регуляции численности человеческой популяции, культура из себя не представляет. Культура — это только инструмент и преемственностью не обладает. Возьмите современное сектантство. И сегодня оно вызвано перенаселением. В Москве это условное перенаселение. Или маленький провинциальный город, где закрылась какая-нибудь фабрика и образовалось избыточное население. Любое социальное действие обращается на биологический источник. Как правило, это женщины пятидесяти лет — обычная среда для массовой психопатии, для любой секты и сейчас. То есть причины существования сектантства те же, что и века назад. Коммунистическое движение — одна из форм экстатической психопатии деструктивного типа (я не имею в виду теорию марксизма, а то, как оно представлено в реальности). Это лишние люди, чье поведение определяется информацией, которая их к этой жизни уже не адаптирует. Кто-то смог забыть эту информацию, утратить свою личность, какую-то ее часть и заменить ее другой, а кто-то не может. И он вступает в механизм дегенерации. Это или молодые экстатические люди (нигилизм, монашество), или пожилые люди, или невостребованная интеллигенция. И они образуют различные секты. Или происходит механическое сокращение популяции (люди снимаются с места, мигрируют и там гибнут). Сектантство — примитивный биологический механизм. Смысл в том, что обществу надо этих людей изолировать от активной деятельности. Им дается некая канализационная структура, в которой они варятся — секта. Это замкнутый мир, в котором они исчезают из общественной жизни. Ничего другого, кроме механического сокращения популяции за этим всплеском сектантства и психопатии нет.
А.Давыдов: Какую вы видите альтернативу этому процессу?
А.Трошин: Если общество дошло до такого состояния, что реальная жизнь определяются подобного рода деструктивными процессами, то альтернативы нет. Если эти механизмы включились, они должны доработать до конца. Теория нужна для того, чтобы блокировать эти процессы на ранних стадиях.
С.Кирдина: Если общество до сих пор существует и даже как-то развивается, то, видимо, наряду с процессами общественной деструкции есть и другие, параллельные?
А.Трошин: Напомню, что речь идет о деструкции как о целесообразном процессе. В обществе, конечно, есть параллельные конструктивные процессы — социализация и др., но в данный момент у нас актуализирована деструкция, нет конструктива.
Л.Китаев-Смык: Вы говорили об относительной перенаселенности и о том, что для России была характерна изоляция. Перенаселенность у Вас, видимо, в кавычках?
А.Трошин: Относительная перенаселенность — это специальный демографический термин. Это не много людей, а много лишних людей. Это то, что Вы называете гибелью и сменой цивилизации, когда информация не адекватна реальности. Изоляция — тоже относительная. Если посмотреть реальную историю, русские не были изолированы. Под изолированностью имеется в виду, что внутри России циркулировало очень много переизбыточной информации, которую было невозможно рационально обработать . Институт приживалок, калик перехожих, нищих. Это глупость, что в русской деревне был информационный голод. С точностью до наоборот. Информации было слишком много (мы не говорим о том, какая это была информация).
И.Яковенко: Изменяются ли каким-то образом пропорции деструкции? Заданы ли они уровнем образования, мерой урбанизации или это константные вещи? Например, такое явление как кликушество в объемных характеристиках сейчас явно сужается.
А.Трошин: Кликушество убила коллективизация в 30-х годах. Но это была специфическая форма, которая возникла на слиянии культа заложных покойников, колдовства и магии, гомосексуализма, крайне низкого статуса женщин. Сейчас статус женщин уже другой, нет такого колдовства, гомосексуализм уже не норма. Но есть попытки элиминировать кликушество в чистом варианте. Ряд не очень добросовестных служителей православной церкви пытаются поднять свой авторитет, вытащить кликушество. в свое время это был главный ресурс Симонова монастыря в Москве. Они это кликушество специально генерировали и как бы его изучали. Однако кликушество не повторится, это конкретный феномен, имеющий специальный механизм.
В.Каганский: Нет ли некоторого противоречия в том, что при такой мощной деструкции, если мы примем Вашу картину, это общество, этот этнос выделял гигантское количество энергии?
Ведь уничтожение ландшафта на территории в 5 млн. кв. км — вещь чрезвычайно энергоемкая. Второй вопрос. У меня ощущение, что многое из того, о чем Вы говорили, это быт очень архаических обществ. Так ли это? Третий вопрос. У Вас мелькали только намеки, что деструктивный фон распределялся по территории очень неравномерно, и что были пятна, более или менее свободные от деструкции. Так, Вы упомянули русский Север. Нельзя ли сделать уточнение?
А.Трошин: Только в маразме общество и может выделять столько энергии . Нигде на Западе такого быть не может. Там ресурсов нет. А здесь они есть. Вырубание лесов, борьба со степью… Что касается архаичности. Здесь многое зависит от определений. Как определять религию? По Дюркгейму любой эмоционально окрашенный стереотип поведения называется религией. Религия — первичный институт. В этом отношении любые общества, поведение которых имеет не рационально словесную, а невербальную эмоциональную подкладку, это архаичные общества. В этом отношении можно говорить об архаичных обществах в современных мегаполисах.
Теперь что касается русского Севера. Там крайне низкая плотность населения и там очень специфическая адаптация.
В.Каганский: Там антропологический субстрат другой.
А.Трошин: И это тоже. Единственные места, где у русских убивали стариков, это Вологодская область. Чтобы не мешали. Как у самоедов. Там в XIX веке в Великом Устюге проходила ярмарка невест. Они становились на площади, перед собой выкладывали образцы своего швейного и кулинарного мастерства. Ходили мужики и выбирали себе невесту. Брали ее на год, а если не понравится, через год возвращали. Это адаптивные механизмы при крайне низкой плотности населения на огромной территории. Деструкции в чистом виде там не могло быть, там были очень тонкие механизмы выживания.
Что касается южнорусской территории, то те места, где когда-то была полная деструкция (Черноземье), были заселены эмигрантами, например, из Малороссии, или же там был образован искусственный этнос — казачество, созданное изначально по некоему рациональному плану (я не имею в виду Запорожскую Сечь). Там не могло быть деструкции, так как там не было исторической преемственности. Деструкция, в такой форме, о которой шла речь, более характерна для традиционной территории. Это средняя полоса России и зона Поволжья.
В.Земсков: Описанные Вами механизмы свойственны именно для русского общества или их можно рассматривать как универсальные?
А.Трошин: В Европе XIX века были подобные процессы с той же структурой, но в это время там происходит переход к монохронной культуре — буржуазия, индустриализация. Там в XIX веке деструкция существует на очень ограниченных территориях. Хотя массовые психопатии как индуцированные помешательства характерны и для Европы. Допустим, бесконечные банковские аферы вкладчиков. Но такого как в России, в Европе XIX века уже не было. Хотя подобные деструктивные процессы были там раньше, в средние века. В XIX веке это сохранилось только на Балканах, частично в Испании и в Австро-Венгрии.
В.Земсков: Неоархаика — не говорит ли она о том, что архаические, мифологические основания и элементы культуры неискоренимы?
А.Трошин: Когда кора не работает физиологически, то работает подкорка. Когда вербальные конструкции не действуют, начинается эмоциональное детерминирование. Почему наша ученая молодежь, студенчество, в особенности физики, так восприимчивы к сектантству? Потому что у них нормальный человеческий функционирующий мозг, который должен каждые два явления называть как минимум тремя словами. Выбор термина для обозначения — принцип функционирования мышления. А у них усвоены сложные научные конструкты, где каждому явлению соответствует одно слово. Когда вербальные конструкты перегружены, то реальная жизнь начинает компенсироваться эмоциональной сферой. То же самое происходит, когда люди усвоили огромное количество слов (какая-нибудь политинформация), не имеющих никакого смысла. Во взрослом возрасте они не могут от этих вербальных конструктов отказаться. Поэтому и в этом случае поведение детерминируется эмоциональной сферой, эмоционально окрашенными стереотипами поведения. То же самое происходит в мегаполисах — культура подростков, где важно знать сленг, арго, с помощью которых регулируется вся жизнь подростка, а отсюда столь важное значение эмоциональной сферы и у них тоже. Поэтому здесь прямая аналогия: ученые, подростки и наши крестьяне.
Б.Ерасов: Это очень интересный и содержательный подход к проблемам современного российского общества. Но вместе с тем создается впечатление, что упор на собственно биологические факторы приводит к тому, что биология становится объяснением и оправданием деструктивных процессов. Не встроена никакая альтернатива, не присутствуют, не рассматриваются конструктивные процессы, противостоящие им. Нет объяснения способности такого общества выживать на протяжении большого периода, отсутствует компаративистская позиция. Сопоставление российского материала с материалами других цивилизаций показало бы, что подобного рода процессы свойственны всем сложным обществам на определенной стадии их развития. Напомню некоторые примеры.
Разложение Римской империи — деструкция населения, тотальное уничтожение, самоуничтожение в том числе. Во времена раннего христианства люди массами уходили в катакомбы, где гибли без потомства. Если было потомство, оно гибло в малолетстве. Такие движения как богомилы — сильная и влиятельная секта. Для того, чтобы прекратить эти деструктивные процессы, пришлось на протяжении нескольких веков проводить конструктивную работу по переосмыслению христианства, по уничтожению богомилов — крестовые походы, уничтожение цветущей провинции Прованс. Население, которое не хочет жить, просто вырезали . В мусульманстве, буддизме тоже самое. Буддизм — идеальная модель деструктивного, аномического поведения, сначала хорошо продуманная через проповеди Будды и соответствующие каноны, а затем чисто иррациональное движение к самоуничтожению, тотальное отрицание самого факта существования индивида и человека как такового. Потребовалось, правда, несколько веков, но буддизм встроился. Негативные аспекты были подавлены или загнаны в монастыри. Оказалось, что монастыри со своими мироотрицающими тенденциями тоже выполняют некоторую нужную функцию. И до сих пор в странах, которые не могут пожаловаться на отсутствие населенности, буддизм выполняет наряду с другими религиями важную конструктивную функцию.
Напомню такие хорошо известные явления как уничтожение народной культуры, ведовские процессы, межрелигиозные войны, когда уничтожалось до половины населения на каких-то территориях. Такие процессы присущи на определенном этапе всем обществам. И рано или поздно общество с этими процессами справлялось. Римская империя не справилась.
Ваши объяснения относительно информационной избыточности как причины деструктивных процессов — важное дополнение к биологическому фактору, которое углубляет Вашу концепцию, но вряд ли ее можно принять в таком виде. Дело в том, что информационная избыточность — очень относительный, теоретический критерий. В силу чего возникает эта избыточность как превышение некоторой меры? И здесь надо вводить не только чисто биологические, пространственные, но и культурные факторы.
Здесь я бы обратился к тем конструкциям, которые разрабатывал А.Ахиезер в своей книге "Россия: критика исторического опыта". Эта избыточность возникала в силу антиномичности русской культуры, в силу отсутствия в ней разработанного поля срединной культуры, в силу ее склонности к крайностям. Неспособность ввести информацию в узкое пространство повседневной жизни и приводило к крайностям — либо к одной, либо к другой. Либо к стремлению к смерти, к самоуничтожению, либо к народопоклонству, к вселенской миссии России и т.д. Как другие культуры справлялись с этим? Они расширяли поле культуры, создавали органичную цивилизацию. Почему Китай, Индия и в меньшей степени мусульманский Восток справляются с этими проблемами, почему там нет перенаселенности? Ведь там не менее сложное пространство. Потому что там существует очень развитая, сложная, упорядоченная цивилизация. И там вмещается вся информация, и там вмещается население. И того, чего у нас избыток, там — недостаток, или с этим избытком мирятся до поры до времени. Плодятся и размножаются. Решение этих проблем — в культуре, через развитие того поля, в котором может жить гораздо большая масса населения. Создается это в значительной степени духовными усилиями. Запрещением, гонениями на секты такого рода, как описаны Вами, развитием жизнеутверждающих, жизнеспособных тенденций, образов и смыслов.
А.Давыдов: Докладчик подчеркнул высокую степень тупиковости развития русской традиционной культуры. Впервые к этому выводу пришел Чаадаев в Первом философическом письме. Этот же вывод сделал Лермонтов в "Думе", когда он указал на дегенеративность русского традиционного общества. На высокую степень дегенеративности и деструктивности указал Гоголь в "Мертвых душах" и особенно в "Ревизоре". Возьмите также каждую строчку Салтыкова-Щедрина . Большое количество элементов такого же вывода можно найти и у Грибоедова в "Горе от ума", у Островского и т.д. То есть вывод, который мы сегодня услышали, не родился в голове автора доклада на том материале, который он нам изложил, а это определенная тенденция в русской культурологии.
Эту тенденцию можно было бы продолжить и в более близкие нам времена — творчество Зощенко, Ильфа и Петрова, смеховая культура сегодня. И есть другая тенденция, которая говорит, что наша традиционная культура — не тупик, она несет здоровый потенциал, здоровое ядро, которым нужно гордиться. Эта тенденция началась с Достоевского. Белинский, первым написавший рецензию на "Забитых людей" Достоевского, называет его прекрасным начинающим писателем, но поражается, как он может так доверять здравому смыслу и здоровой природе русского народа. Я не говорю сейчас, насколько удачно было применено понятие "русский народ", но Белинский говорил о русской традиционной культуре.
Эта тенденция питалась иллюзорным представлением, что нет тупика, что есть выход из положения, просто надо его поискать, что все дело в заблуждениях того же Гоголя, Лермонтова и т.д. Началось народопоклонство Достоевского, Толстого, концепция народобожия Горького, элементы этого заблуждения мы находим и у Маяковского, и у Блока. Правда, был Чехов. Это другая традиция, я в этот ряд его не ставлю. Таким образом, есть две традиции в русской культурологии. Я не беру русскую религиозную философию, которая видит источник нравственности на небе, и русскую революционную демократическую традицию, которая делает из народа Бога и призывает к катастрофам, революциям и крайностям. Но тем не менее альтернативная тенденция тоже делится на две части. Важно понять, что на путях традиционности выхода нет. Только тогда мы найдем конструктивный выход.
И.Гр.Яковенко: Для меня деструкция — момент саморазвития целого. Она всегда была в любом обществе, она естественна. Ее может быть больше или меньше, но это момент, без которого нельзя мыслить живой социокультурный организм. Поэтому когда мы говорим о деструкции, надо вести речь либо о стадиальных ее характеристиках, либо о какой-то цивилизационной ее специфике, присутствующей в том или ином обществе. Мне представляется, что формы деструкции, о которых шла речь в докладе, бросают свет на качественные характеристики того целого, которое мы исследуем. Мы имеем дело с архаической, периферийной цивилизацией, в которой имеет место языческо-христианский синкрезис, причем языческое, как оказывается, доминирует, а христианское является лишь оформлением.
Эти представленные нам формы деструкции сегодня уже изживают себя. Такие вещи как всеобщее образование, массовые коммуникации несколько меняют психологию, меняют реальность. Сегодня больше работают такие формы деструкции, как забывание, как резкая смена семантики, когда позавчерашние, ненужные вещи утрачивают свой смысл и позавчерашние тексты нельзя прочесть, они обессмысливаются. Это механизм деструкции, то есть выведения ненужной информации из бытия. То есть имеет место изменение объемных, и, видимо, и качественных характеристик деструкции. В этом смысле что-то в обществе меняется и оно тем самым выходит из тупиковости той исторической ситуации.
Катастрофа не является чисто негативным явлением. Она оказывается фактором мобилизующим, она мобилизует общество и на какие-то мутации, и на какие-то осмысленные изменения, и кроме того, катастрофа позволяет поднять энергетический порог и перейти потенциальный барьер, который закрывает системообразующие структуры общества от случайных изменений. Чем мощнее катастрофа, тем больше шансов на изменение глубинных, традиционных оснований культуры и общества. То есть катастрофа должна осознаваться и в позитивном плане. Другое дело, что в ее результате общество может рухнуть. Но это значит, что оно исчерпало возможности к саморазвитию и изменению.
Л.Куликов: Россия — некая гиперличность, такая же как США, Германия, Индия и т.д. В системе этих гиперличностей кто-то выживает, кто-то нет. Процесс исторического отбора идет с того момента, как появилось человечество. Конечно, очень не хочется, чисто на эмоциональном уровне, принадлежать к цивилизации, у которой нет будущего. Россия — в той форме, в которой она сегодня существует, с ее архаичной культурой — не выживет.
А.Ахиезер (руководитель семинара): Докладчик представил почти не исследованный в советский и постсоветский периоды материал, представляющийся крайне интересным, даже загадочным. Он требует теоретического осмысления. Автор утверждает, что он не претендует на объяснение. Между тем это не совсем так. Попытки теоретического осмысления в докладе есть. Это, прежде всего, попытка рассмотреть эти явления как биологические, а также попытка рассмотреть факты накопления в тех или иных группах информации, которая мешает этим группам адаптироваться, как предпосылку их гибели. Это должно обсуждаться.
Мне, однако, эти объяснения представляются недостаточными. Мне кажется, что биологическая интерпретация этих явлений вступает в противоречие с информационным объяснением. Бесспорно, что дезадаптация к среде может привести к гибели группу. Тем не менее, это объяснение здесь вызывает сомнения. Во-первых, о какой среде идет речь, если материал свидетельствует об изолированной жизни групп, погруженных в натуральное хозяйство в замкнутых локальных мирах? История России показывает, что крестьянские общества жили сравнительно замкнутой, почти самодостаточной жизнью. Мне кажется, что здесь мы сталкиваемся с чем-то иным .
Во-вторых, в принципе в культуре есть критический элемент, то есть накопление опасной и вредной информации не обязательно требует уничтожения носителей информации, но требует ее критики. Христианство считает, что надо уничтожать грех, а не носителей греха . Это, разумеется, не исключает существования механизмов уничтожения, гибели людей в результате накопления опасной, вредной информации. Но в этом случае речь идет об архаичной культуре, где способность к критике накопленной информации еще не достигла минимально необходимого уровня. Можно построить гипотезу, которую я не могу доказать, что в этих сообществах сформировалась нефункциональная культура, то есть культура, которая не обеспечивала своему субъекту возможность принимать эффективные решения. Иначе говоря, решения, способные обеспечить основу для воспроизводства субъекта культуры, для своей собственной выживаемости.
О том, что такие культуры возникают не так уже редко, свидетельствует тот факт, что множество существовавших народов и обществ погибли, то есть не смогли накопить и сформировать культурный потенциал, дающий основу для противостояния этим опасностям. Мы еще недостаточно знаем внутренние механизмы культуры, чтобы понять, как это происходит в самой культуре, что именно там происходит, что приводит субъекта к распаду, прекращает его воспроизводство. Трошин дает богатый материал для размышлений по этому поводу. Во всяком случае, несомненно, это не биологический процесс. Очевидно, в самой культуре может происходить какое-то "короткое замыкание", которое выводит из строя соответствующую субкультуру, ее субъекта.
Доклад вызвал определенный всплеск пессимизма по поводу дальнейшей судьбы страны. Мне кажется, что докладчик говорил о некоторых локальных явлениях, а не о стране в целом. Разумеется, речь идет о российских негативных явлениях, но автор не утверждал, что он видит здесь общую угрозу. Во всяком случае, во всем этом следует видеть задачу для дальнейших исследований. Надо сказать, что Россия является высоко дезорганизованным деструктурированным обществом. Мне кажется, что доклад делает определенный шаг в понимания этого явления. В обществе есть или во всяком случае были механизмы, существенно его дезорганизующие. Они уходят в глубь истории.
Видимо, заниматься дезорганизацией какого-нибудь промышленного или сельскохозяйственного предприятия бессмысленно, если мы не понимаем, на какой культурной основе развились колхозы и предприятия и т.д. Сегодняшний доклад намекает нам, что есть серьезные процессы в культуре, о которых надо знать, чтобы понять, что такое колхоз, а может быть понять и что такое Великая октябрьская социалистическая революция, что такое советская система, что такое современная Россия.
Деструкция должна быть понята как аспект существования общества. Если в результате этой деструкции общество не разрушено, а продолжает существовать, значит кроме деструкции есть какие-то другие процессы. Это какая-то пара, без которой мы не можем понять, что такое общество. Нужно найти эту пару.
В докладе есть некоторые неясности. Докладчик считает, что деструкция — реакция общества на какие-то негативные процессы, в том числе на более высокую плотность населения. Есть ли норматив такой плотности, возможно, исторически меняющийся? Деструктивная реакция, как я понял из доклада, существует для того, чтобы привести эту плотность к какому-то приемлемому состоянию. Эта схема как бы срисована с биологических процессов, но ее нужно проработать на материале общества.
То, о чем мы сегодня слышали, это феномен деревенский. Это архаичная культура архаичных людей в малых поселениях. А ведь проблема дезорганизации — это проблема нашей повседневной жизни, проблема больших городов. То есть проблема дезорганизации иерархична, она исторически постоянно усложняется. Проблема требует теоретического осмысления на фоне мирового процесса.
Согласимся с докладчиком, что жизнь людей переживает на каких-то этапах мощный кризис, связанный с чем угодно, в том числе с плотностью населения, и что в обществе заложен механизм, доводящий эту плотность до какого-то норматива. Но здесь сразу возникает вопрос, без ответа на который культуролог не сможет спокойно спать: а почему это общество решает эту проблему высокой плотности именно таким образом, а не каким-то другим? Сразу возникает предположение, что здесь какие-то разные, исторически сложившиеся культуры, одновременно являющиеся программами деятельности людей в данной местности. Здесь видны сущностные культурные различия. Но в таком случае мы должны оперировать материалом культуры. У крестьянина, для которого весь мир заключался в его деревне, и у нас, живущих уже в ином, большом мире, разные ценности, стремления, поступки. То есть в разных культурах разные механизмы для решения одной и той же проблемы, да и проблемы уже другие.
То, что сказал нам сегодня докладчик, заставляет думать, что мы не понимаем и не знаем механизмов событий, которые произошли в России в ХХ веке и происходят на наших глазах. Что если в России существовала такая массовая реакция на какие-то негативные процессы, о которых говорил докладчик, то мы не используем это при анализе, скажем, массового поведения русского крестьянства, которое установило у нас советскую власть. Механизмы массового поведения заставляют нас еще и еще раз задуматься о той патологической, беспрецедентной в истории больших обществ ситуации, в которой мы оказались. И докладчик намекает нам, где искать.
Семинар N16 Социокультурная методология анализа российского общества
Независимый теоретический семинар
г.Москва
Андрей ТрошинСтандартизация малых форм в архитектуре 1960-70-х гг. как маркер двух типов организации городской среды
В статье выдвигается предположение о том, что в 1960-е и в 1970-80-е советская градостроительная практика основывалась на различных моделях городской среды. Это были не просто разные типы планировки, а разные системы контроля за поведением человека. Это различие наиболее заметно маркируется изменением в малых архитектурных формах
Трошин Андрей Алексеевич,
кандидат философских наук,
ведущий научный сотрудник, Российский научно-исследовательский
институт культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева (Москва),
e-mail:
[email protected]
Градостроительство в целом - крупный, а потому во многом инерционный процесс. Он, разумеется, отражает общественные тенденции, но делает это с «большим шагом», в значительном временном периоде. Об изменениях, происходящих в обществе, куда оперативнее свидетельствуют изменения в малых областях архитектурного творчества. Анализируя их, мы, к примеру, можем говорить о принципиальном различии двух периодов модернизма в советской архитектуре.
Наступление в 1950-е гг. эпохи градостроительного модернизма стало для советского человека культурной революцией, превзошедшей по степени воздействия на структуру социума влияние сталинского неоклассического стиля. Причина этого в том, что модернизм представлял собой искусственно привнесенный внешний опыт, тогда как «большой стиль» был исторически-детерминированным культурным явлением, социальные причины появления которого были сугубо внутренними - бедность и малая техническая оснащенность страны. В архитектуре именно эти факторы, вкупе с социальными стереотипами благополучия «из хижин во дворец», определили возврат в 1930-е гг. к художественному языку символизма, со свойственной тому поэтикой ремесленничества. Конкретный образный ряд этой поэтики, все эти кампанилы, ордера, вазоны, балюстрады с балясинами и пр. не был так уж принципиален. Впрочем, когда пришла «современность», именно с внешними проявлениями предшествующей поэтики - символизмом, аллегоризмом и жанровостью в любых формах - надо было демонстративно покончить. «В противном случае мы останемся в эстетике пленниками эстетизма или переоценки образа (и как следствие - украшательства в архитектуре) во вред понятию (а, следовательно, нужному и полезному для человека), за которое успешно выступало современное революционное движение в архитектуре» . Эта цитата из трудов итальянского марксиста вполне четко проговаривает «легенду» действий модернистов - «образы заменить понятиями», - хотя ничего в ней не объясняет.
О каких понятиях, применительно к советской реальности, может идти речь? То, что архитектурные решения основного массива градостроительства 1960-80-х гг. мало обогатят визуальную память соотечественников, было как-то сразу понятно даже самим творцам. Уже в 1957 г. в анкете Международного союза архитекторов, приуроченной к проведению в Москве его Пятого конгресса, имелся вопрос: как избежать монотонности и шаблона в планировке и застройке новых городов .
Так что «понятия нужности и полезности» в градостроительной практике советского модернизма уж точно не имели отношения к сфере эстетических проблем. Их первопричина была политическая: после разброда середины 1950-х, вооружившись вновь сформированным каноном «советского», власть пыталась совладать со стремительно обновляющейся, в первую очередь - технологически - реальностью, противопоставляя ей идеологически неизменного, т.е. обитающего вне реальности, человека. «Одной из важнейших задач коммунистического строительства является формирование нового человека - гармонично развитого, всесторонне воспитанного, широко образованного, беззаветно преданного народу, великому делу Ленина. Составная часть коммунистического воспитания - воспитание эстетическое» . И это такого сорта эстетическое воспитание, что призвано оно лишь способствовать убеждению обывателя в том, что никакие технологические модернизации в любой перспективе развития не способны пошатнуть незыблемые идеологические основания общественной жизни.
Простейший прием убеждения, применяемый в этом случае «эстетической пропагандой», - демонстрация количественного нарастания реальности. И типовая застройка - самый заметный пример такого нарастания. Ведь «большой стиль», при всем своем единстве, сохранял региональную привязку: строительство всегда воспринималось как строительство в конкретном месте. А безликие хрущевки - это новостройка «в принципе». Бесконечные «черёмушки» по всей стране, повинующиеся то ли принципу «здесь, как везде», то ли «везде, как здесь».
Удивительна взаимосвязь количественного нарастания визуально упрощенной и стандартизированной городской среды и роста благосостояния людей. Сложно понять, что первично. Очевидно лишь, что примирение людей с жизнью в таком пространстве объясняется не только мифологией бегства из коммуналок и получения пусть плохого, но отдельного жилья. Здесь необходима частичная потеря культурной памяти, причем на довольно глубоких уровнях, определяющих идентичность; ведь тип общежития «черёмушек» не имел предпосылок даже в практике жизни в бараках.
Полагаю, что этой амнезии способствовало изменение способов видения и восприятия окружающего; по крайней мере, среди горожан. Чему содействовали, в ряду прочего, рост кинопроката и изменение его социальной роли, а также появление телевидения. Сошлюсь здесь на работу французского автора Поля Вирильо, переносящего медицинские теории дислексии, устанавливающие связь между состоянием зрения и речью, в более широкую общекультурную сферу. Он описывает, как типическую, ситуацию, когда происходит «частое ослабление центрального (фовеального) зрения, средоточия наиболее острых ощущений, в сочетании с нормальной силой зрения периферийного, в той или иной степени рассеянного. Происходит диссоциация видения, гомогенность уступает место гетерогенности, и этот процесс приводит к тому, что, словно под воздействием наркоза, серии зрительных впечатлений кажутся нам бессмысленными, не нашими; они просто существуют, словно бы всё сообщение повинуется теперь единственно скорости света» . Так же он ссылается на Вальтера Беньямина, говоря о том, что в ХХ веке изображение пришло на смену слову, а потом ему уже нечего стало сменять; слова больше не имели образов, образы не вызывали слов, и в обществе стал явственен рост зрительно неграмотных. Вот такая архитектура, предполагающая дислексию зрения, «архитектура эпохи телевидения, за которым следят краем глаза» и есть основа советского градостроительства 1960-1970 гг.
Советский обыватель в 1960-е гг. освоил это пространство. И если сталинские высотки стали для него в это время «впечатанным в память стереотипом», потому что он об их символике-аллегорике уже ничего не знал и как текст ее читать не мог, то, к примеру, о «мишкиных книжках» (творение Михаила Посохина на проспекте Калинина в Москве) он знал все. Просто потому, что об этом знать было нечего. Язык «книжек» в этом случае - мозаичный текст, воспринимаемый только периферийно. Ну, кроме праздников, когда из освещенных окон высвечивались слова «СССР» или «КПСС».
С малыми архитектурными формами, соразмерными человеку, ситуация несколько иная. Советская идеология сочла опасным, что наряду с определяемыми государством прагматическими системами (регулирующими соотношения между знаковыми системами и теми, кто их использует), в обществе могут складываться в относительно устойчивые формы прагматики, своим происхождением обязанные традиционному культурному ресурсу, к примеру, этническому. Что отчасти происходило в практике оформления мест захоронений, например. Во избежание распространения таких практик государственному контролю надо было «наполнить» пространство города некими символическими товарами. Эту роль в 1960-е взяли на себя преображенные стандартизированные малые формы, с которыми уже к концу 1970-х приключилась новая трансформация, свидетельствующая о появлении другого типа городской среды, отличного и от города 1950-х и от города 1960-х гг.
Форматы двух разных типов города советского архитектурного модернизма мы и сравним - для начала, на примере скульптурных изображений парнокопытных животных.
Вот фрагмент текста, посвященного описанию сквозного рельефа «Лань с детенышем», выполненного И.С.Ефимовым для санатория в Цхалтубо: «…отсутствие объёма и структурность контура, сквозь который видна листва деревьев, создает впечатление пульсирующего изменчивого и живого изображения. Создаются зрительные отношения, удачно выражающие сам характер этих пугливых животных. Всё это говорит о том, что выбор художественной формы и изобразительного приема целиком совпадает с образом изображения, помогает его раскрытию. <…> Однако первое, что бросается в глаза при рассмотрении этого рельефа, это условность и необычность взаимосвязи формы с окружающим пространством» .
Прошло 12 лет, и вот фрагмент другого текста другого автора: «Так, сквозной рельеф скульптуры «Олень» удачен отсутствием объема и ажурностью контура. Сквозь скульптуру всегда видна листва близко посаженного кустарника. Движение его от ветра создает изменчивое и живое изображение, выражающее характер этого порывистого животного. То есть, художественная форма и изобразительный прием совпали и, кроме того, обеспечили перетекание пространства участка, обогащающее архитектуру, скульптуру, ландшафт» .
В этих двух текстах сходство описаний реальной скульптурной Лани с гипотетической скульптурой Оленя нам не очень интересно. Интересны различия. И, разумеется, речь не о том, что в первом случае сквозь контур видны деревья, а во втором - кустарники.
В первом случае автор (А.Н.Бурганов) еще позволяет себе по старинке употребить слово «образ» и говорить о взаимосвязи формы и пространства. Пусть это предельно абстрагированная форма: «В условиях современного строительства блоки типовых домов, созданные при помощи машин, имеют четкие очертания и резко выделяются среди окружающей природы. Так называемые “малые архитектурные формы” - плескательные бассейны, скамейки, вазы и т.д. - должны соответствовать этой современной архитектуре. Декоративная скульптура, естественно, тоже не должна отрываться от общего стиля ансамбля. Она вынуждена принять ту обобщенность форм, которая характерна для современной архитектуры» .
Для человека в этом пространстве допускается проявление индивидуального поведения. Но это поведение может быть лишь статичным - замереть и наблюдать. Поэтому лучшая скульптура - это решетка, либо декоративный забор со множеством отверстий, которые ничего не разграничивает. Такая скульптура просто указывает человеку на возможность места, точки (обо)зрения мира. Неспроста в моду вошли, особенно в оформлении детских площадок или предназначенных для детей зданий, рельефные изображения морских рыб на таких решетках. Их парадоксальность - рыбы на суше - как бы предполагает новый, а потому «свой» взгляд на окружающее.
В тексте второго автора (Б.М.Мержанов) образ уже совершенно закономерно не упомянут; речь идет только о понятии «порывистости». Нет и взаимосвязи предмета и окружающего пространства, так как главным становится включенность в общий процесс функционирования городской системы («перетекание»): «…необходимо совместить два графика. Первый - функциональный график движения людских потоков; второй - график запрограммированных авторами эстетических восприятий фрагмента жилой среды человеком, для которого она создана. Таким образом, комплекс зрительных впечатлений должен быть максимально выявлен с наиболее эффективных по ходу движения точек. В этом и заключается определенная композиционная закономерность при проектировании малых архитектурных форм - функциональное единство жилой среды» .
Для человека в этом пространстве допускается только динамика и, как следствие, отсутствие собственного мнения, ведь зрительные впечатления ему уже предписываются. Даже отдых - это временное пребывание внутри динамической системы в специально ограниченной и отграниченной подсистеме, выстроенной, с помощью малых форм, по «понятиям»: «камень, дерево, растения в вазе олицетворяют природу» , и т.д. Основные принципы формирования пространства - максимальное использование естественных условий ландшафта (ничего парадоксального), что важно из-за психологических перегрузок горожан. Цель - создание городской среды как оперативно закрытой системы, не способной ни ориентировать обывателя на возможность предпринять действия за своими границами, ни реагировать на действия извне. В этой культуре, в 1970-е, лучшей малой архитектурной формой становится монотонный глухой железобетонный забор - главное украшение окраин советских городов, их крепостные стены (постепенно проникавшие - через стройки, промзоны и разные закрытые объекты - в центр города).
Проверим ту же эволюцию на ином примере. Здесь, к тому же, тексты будут принадлежать одному автору.
В 1963 году на Карельском перешейке возник детский оздоровительный городок «Солнышко». Рассчитан он был на 2300 детей дошкольного возраста, проживавших там полгода или год. Проект планировки принадлежал мастерской №3 института «Ленпроект», строительство вел трест № 104 Главленинградстроя. «Создание “Солнышка”, по существу, один из первых в Ленинграде крупных экспериментов в области синтеза искусств, открывающего широкую дорогу дальнейшим творческим поискам. В 1965 году работа проектировщиков и строителей детского оздоровительного городка “Солнышко” была заслуженно отмечена первой премией на смотре-конкурсе, ежегодно проводимом Госстроем РСФСР» . Для оформления игровых площадок «Солнышка» характерно использование декоративных бетонных перегородок с проходами и воротами, ничего не разграничивающими и не являющимися обозначениями некой «зоны перехода». Это просто привязка детей на местности. Особенно интересно обучающее детей аллегорическое решение идеи современной архитектуры. «К автотреку примыкает площадка для строительных игр. Композиции из разноцветных бетонных кубов образуют на этой площадке “лабиринты”, “города”, “крепости”. Воспитательница раздает детям цветные деревянные кубики-вкладыши, которыми можно наполнить бетонный куб или “достроить” его. Оборудование этой площадки рассчитано на развитие творческой фантазии детей» .
Для оформления игровых площадок «Солнышка» характерно использование декоративных бетонных перегородок с проходами и воротами, ничего не разграничивающими и не являющимися обозначениями некой «зоны перехода». Это просто привязка детей на местности. Особенно интересно обучающее детей аллегорическое решение идеи современной архитектуры. «К автотреку примыкает площадка для строительных игр. Композиции из разноцветных бетонных кубов образуют на этой площадке “лабиринты”, “города”, “крепости”. Воспитательница раздает детям цветные деревянные кубики-вкладыши, которыми можно наполнить бетонный куб или “достроить” его. Оборудование этой площадки рассчитано на развитие творческой фантазии детей» .
Опыт 1960-х Ю.Б. Хромов подытожил в книге, вышедшей в 1973 г. А уже в 1974 г. его представления об идеальной детской строительной площадке переменилось: «Идея создания площадок с предоставлением детям строительных материалов и соответствующего оборудования принадлежит датскому ландшафтному архитектору Сьоренсену. Одна из первых строительных площадок такого типа была сооружена в парке датского города Емдрупа. Прямоугольная в плане площадка размерами 6300 м² была окружена земляным валом с зелеными откосами, украшенными цветниками, живыми изгородями из кустарника и группами деревьев. На площадке имеется павильон, где размещены две мастерские для любительского труда со станками и верстаками, туалеты, помещения для игр, для хранения оборудования и инвентаря, комната для воспитателя. В композицию павильона включена пéргола, под навесом которой размещены столы для изготовления моделей и строительных элементов.
Площадка открыта с апреля по ноябрь. В этот период дети строят на территории городка 100 игровых домиков. После окончания строительства домиков дети разбивают около них небольшие садики, сажают цветы. Осенью дома разбираются. Материалы для строительства - доски, кирпичи, кисти и краски выдает детям воспитательница в павильоне обслуживания. Рядом с площадкой - большой цветочный сад, откуда дети получают рассаду для своих маленьких садиков» . Т.е. мы наблюдаем не просто точку привязки детей к пространству, занятому взрослыми или «природой», как в случае «Солнышка», а их изоляцию от этих пространств в сформированной оперативно закрытой системе; только вместо забора здесь использован экзотический для советского опыта земляной вал. Подобный идеал и должен был формировать новую советскую городскую среду. А то, что он как бы иностранный - ничего удивительного, ибо его действенность и основана на том, что это целиком привнесенный внешний опыт.
Точкой окончательного перехода из одного формата бытования искусства малых форм в другой является 1972 год, года в октябре, по инициативе Правления Союза архитекторов СССР, в Кишиневе состоялось Всесоюзное творческое совещание «Современный облик и художественный колорит города». Интерес к теме объяснялся проведенным тогда сокращением рабочего дня, что вызвало необходимость переноса идеологического контроля из производственной сферы в сферу досуга. Формой контроля, среди прочего, была перекомпоновка города. Так, детские игровые площадки преимущественно должны были быть на территории детского сада, а не в общественном дворе. Которого, как такового, и быть не должно.
Любовь к решеткам, а более - к бетонным заборам как средству разграничения и оформления городского пространства в те годы была концептуальной, и происходила от состояния духа. Основополагающие понятия которого вокруг нас выражали, вместе с заборами, еще и бордюрные камни… К счастью, ненадолго, - социум постепенно разваливался, подходила эпоха граффити, когда частные захватчики вновь покоряли разграниченный прежде общественный мир.
ЛИТЕРАТУРА
Анкета МСА: Строительство и реконструкция городов 1945 - 1957 гг. - М., 1958. - 12 с.
Бартенев И.А.
Детские сады, школы. Серия «Детей окружает искусство». - Л.: Художник РСФСР, 1966. - 68 с.
Бурганов А.Н.
Художественное решение участков жилой застройки // Прикладное искусство и современное жилище. Сб. п/р С.М.Темерина. - М.: издательство Академии Художеств, 1962. - с. 122 - 148.
Вирильо П.
Машина зрения [Текст] / Поль Вирильо; [пер. с фр. А.В. Шестакова под ред. В.Ю. Быстрова]. - СПб.: Наука, 2004. - 144 с.
Вольпе Г.
Критика вкуса [Текст] / Гальвано делла Вольпе; [предисл. и общ. ред. К.М. Долгова; пер. Г.П. Смирнова, Э.В. Цветковского]. - М.: Искусство, 1979. - 352 с., л. ил.
Мержанов Б.М.
Малые формы в архитектуре жилой застройки. - М.: Знание, 1974. - 58 с.
Хромов Ю.Б.
Новое в благоустройстве Ленинграда. - Л.: Лениздат, 1973. - 128 с.
Хромов Ю.Б.
Планировка и оборудование садов и парков. - Л.: Стройиздат, 1974. - 160 с.
Социокультурная методология анализа российского общества
Независимый теоретический семинар
г.Москва
17 декабря 1997 года
Тема семинара: Теоретические основы деструкции в обществе (на материале
истории России XIX века)
Докладчик: Андрей Алексеевич Трошин
Присутствовали
Члены-учредители:
А.Ахиезер, А.Давыдов, Е.Туркатенко, И.Гр.Яковенко.
Участники:
Ю.Баусов, И.Беседин, А.Бодрилин, Ю.Вешнинский, Дж.Глейзнер (Великобритания), Б.Ерасов, В.Земсков, В.Каганский, С.Кирдина (Новосибирск), Л.Китаев-Смык, Л.Куликов, И.Левин, Р.Максудов, А.Неклесса, А.Пелипенко, И.Петров, М.Румянцева, Р.Рывкина, Э.Сайко, А.Трошин, Н.Федотова, Я.Шемякин, В.Шерстов.
А.Трошин: Предметом моего доклада является полное уничтожение социальной структуры, которое детерминировано ею самой. Оно может быть или целесообразным для общества - в том случае, если подготовлено историей этого общества, или случайным - какая-нибудь катастрофа и адаптация к ней. В данном докладе меня интересует деструкция как целесообразное социальное действие.
Я следую максимальной методологической редукции: всё свожу к системе передачи информации. Под информацией понимается любое различение, производящее любое различение. Деструкция мною трактуется как процесс сброса, уничтожения социальной информации, которая стала обществу не нужна, которая не адекватна ситуации, не способна адаптировать человека к условиям внешней жизни. Например, знания о стоянии в очередях или о проведении первомайских демонстраций в данных условиях не актуальны. Если некие социальные группы руководствуются именно такой информацией, то очевидно, что общество должно эту информацию каким-то образом изолировать, уничтожить. Как чистая идея информация не уничтожается. Поэтому смысл деструктивных процессов - уничтожение носителей информации, при котором должно произойти снижение внутрипопуляционного давления. То есть резко снижается число коммуникаций, и при этом та информация, которая была доминантной для общества, утрачивает свой статус, а маргинальная информация актуализируется и в условиях деструкции может занять лидирующее место в создании нового общества.
Существует три возможные формы деструкции. Первая - забывание, которое я трактую как утрату личности, личной идентичности, части личной идентичности и замена ее другой. Это единственный вид деструкции, который имеет источник возникновения на личностном уровне. На уровне общества, если забывание не срабатывает, последовательно включаются два механизма. Дегенерация - нарушение воспроизводства (обычно - человеческого воспроизводства, но можно это слово применить и к нарушению воспроизводства символических объектов). Высшая форма деструкции, наиболее полная и совершенная - механическое сокращение численности популяции.
Для личности деструктивность - это компонент культуры, побуждающий отказываться от сложившихся социальных, поведенческих, символических структур. Все общественные процессы редуцируются к действиям. Исходя из этого, предметом рассмотрения могут быть только действия и оформление этих действий в систему. Чтобы оградиться от странного характера примеров, которые будут приведены, я защищаюсь основным постулатом социологии Дюркгейма: ни один институт, созданный человеком, не мог основываться на заблуждении или лжи. Если бы он не основывался на естественной природе вещей, он бы не существовал. То есть в любых, даже самых странных действиях есть какой-то смысл.
Если деструкция - это санкция на действия, то каким образом она передается в обществе? Тут логический парадокс: если деструкция - разрушение общества, то и способность к разрушению должна передаваться. Если мы определили деструкцию как разрушение социальной структуры, то преемственность деструктивных действий может основываться только на отношении к отдельному человеку. Ценность человеческой жизни как онтологическое понятие - основа социокультурной деструкции. Мне кажется, что связанные с этим санкции и являются подлинным и единственным маркером этноса. Понятие этноса на самом деле может быть выведено именно применительно к культуре, на основе того, какие именно социокультурные санкции в ней существуют.
Первый спорный тезис: в наиболее чистом виде деструктивные санкции (онтологическая ценность человеческой жизни) проявляются в отношении к мертвому. Все читали известный перевод книги Ф.Арьеса "Человек перед лицом смерти", где в предисловии сказано: хотите узнать подлинную ценность человеческой жизни, посетите кладбище. В русском обществе всё очевидно. Единственный обычай русских, который можно проследить по источникам за более чем тысячелетний период, и на основе которого мы, кстати, можем доказать связь поколений, это так называемый культ заложных покойников. У русских изначально умершие делились на два разряда - умершие естественной смертью (в широком смысле - родители) и умершие неестественной смертью (домовики, мертвяки, заложные покойники), которых нельзя было хоронить. Их выносили в болота или овраги, где они и должны были "доживать" положенный срок. После христианизации возник очень серьезный конфликт между навязанной государством обрядностью и реальным этническим поведением. Он нашел свое странное разрешение в институте "скудельниц". Скудельница - место, выделенное для братской могилы, а точнее - морга, где в течение года складывались все, кто умер от болезни, погиб, а потом, раз в год, закапывались. Это был очень важный институт, высшая форма общественного покаяния. И когда Екатерина II в 1771 году отменила этот институт в связи с эпидемией чумы, то в русском обществе начала происходить очень странная вещь. Этническое сообщество ответило на эту меру массовым осквернением могил. В русском праве до 1771 года речь шла только о "мародерстве", но количество оскверненных могил после отмены скудельницы было столь массовым, что уже в 1772 году в полном собрании законов вводится понятие "святотатство" в отношении ограбления могил. Оно каралось битьем кнутом на площади или на самом месте сделанного преступления, вырыванием ноздрей, клеймением и ссылкой на каторжные работы. В течение XIX века наказание смягчается. В уложении о наказаниях 1845 года за разрытие могил как суеверных действиях предусматривалась ссылка на поселение в Сибирь. То же деяние с целью ограбления каралось каторгой (до 12 лет), а по шалости или пьянству - от четырех до восьми лет тюрьмы. А в уголовном уложении 1903 года это заключение в тюрьму на срок не свыше шести месяцев. Но либерализация наказания не означала утрату его необходимости. На конец XIX века приходится пик достоверно описанных случаев исполнения обряда этого культа. Последнее уголовное дело такого рода было в 1914 году. Но известно, что и в двадцатых годах подобные явления имели место.
Любая неудача в обществе (неурожай, массовые заболевания) вызывала поиск объекта компенсаторного насилия. Смысл деструкции - универсальный ответ сообщества. Ресурсом ответа является не внешняя среда, не рациональные действия по отношению к среде, а члены самого общества, даже умершие, в этом заключается универсальность - чтобы не случилось, у сообщества всегда есть объекты компенсаторного насилия. Поначалу это были умершие неестественной смертью. Приведу типичный случай. Летом 1864 года в Саратовской губернии стояла сильная засуха, хлеба и травы горели на корню. Однажды утром рабочий-арендатор заметил в господском пруду торчащие из воды ноги. Из воды вытащили гроб. Оказалось, что на местном кладбище разрыта могила. Покойник был сильным пьяницей. По народному суеверию, чтобы вызвать дождь, надо утопить покойника пьяницу. Когда русским мужикам в Нижнем Поволжье не хватало покойников-пьяниц, им нашли замену - лягушек. В засуху их развешивали на деревьях. До сегодняшнего времени сохранились синкретные формы этого культа: детское поверье - если раздавишь лягушку, то пойдет дождь.
Трансформация культа заложных покойников стала основой для рутинной практики, распространенной в России. И реальная жизнь русского сообщества основывалась на культуре магии и колдовства, выполнявших в обществе функции объектов компенсаторного насилия и источников детерминации для различных форм массовых психопатий. Всё это доказывается на многочисленных примерах. Сейчас издается много литературы на этнографические темы. Но эта литература не снабжена теоретическими комментариями и то, что в ней излагается, производит ужасающее впечатление. Это бесконечная черная месса. Например, обычай "опахивания смерти" - основная форма поведения русских женщин при эпидемиях любого происхождения. Существует несколько десятков вариантов этого культа. В "Воронежском литературном сборнике" (Воронеж, 1861) описывается один из них. Женщины и девушки в одних рубашках с распущенными волосами собираются в тайном месте. Выбрав из своей среды трех вдов, дают первой образ божьей матери, второй свечи и ладан, а третью запрягают в соху, за которой ставят двух беременных женщин. Процессию замыкают все остальные женщины и девушки, собравшиеся для свершения обряда, толпа обходит по околице селение, проводя глубокую борозду. Действо сопровождается пением. Всё живое, что встречается им на пути, убивается (по поверью болезнь принимает вид не только животного, но даже человека). Можно привести десятки уголовных дел о зверских убийствах женщинами несчастных прохожих.
В конце XIX века в России существовали фаллические карнавалы. Восьмидесятые годы, Кострома. Так называемые похороны Ярилы. Это женская мистерия, при которой или хоронят куклу с развитыми гениталиями, или гоняют по городу какого-нибудь нанятого, как сейчас сказали бы, бомжа, которого затем "топят" в Волге.
Исходя из вышеизложенного, на основе переживаний культа заложенных покойников и чудовищной веры в колдовство, которой определялась русская жизнь, социокультурная деструкция была представлена в пяти типах санкций, характерных для всего русского этноса (в различных вариантах). Я их условно делю на дегенеративные санкции и санкции, направленные на механическое сокращение популяции.
Дегенеративных санкций две: скотоложество и мужеложество. Это требования культурного поведения, которые заставляют людей заниматься именно такими формами социального поведения. Это описывается в работе В.И.Жмакина "Русское общество XVI века", И.В.Преображенского - "Нравственное состояние русского общества в XVI веке..." и др. До начала XVII века основной формой поведения русских мужчин был гомосексуализм как гендерная норма. Мужчины обществу женщин предпочитали маленьких пухленьких мальчиков. В монастыри было запрещено пускать мальчиков. Профессор Н.Д.Сергеевский пишет, что двухсотлетнее отставание в развитии школы в России объясняется чудовищной педофилией у монахов. Профессор В.С.Иконников доказывает, что русский гомосексуализм имеет два источника (А.П.Щапов, С.С.Шашков об этом писали). Это, во-первых, влияние кочевых народов с их презрительным отношением к женщине как к обузе и, во-вторых, - византийское христианство. Вся идеологическая программа гомосексуализма шла из Византии. Уже в Изборнике Святослава (1073 г.), переведенном с греческого, встречается статья о женщинах, в которой, начиная с падения Евы и основываясь на целом ряде библейских примеров, приводится самый отрицательный взгляд на женщину. Эти рассуждения повторяет Даниил Заточник и другие.
Первой попыткой борьбы с гомосексуализмом, которая провалилась полностью, был Стоглав. Официально на Вселенских московских соборах в конце XVII века был впервые запрещен гомосексуализм. Это каралось сожжением на кострах. По свидетельству иностранцев, на льду Москвы-реки одновременно горело по несколько сот костров, на которых сжигали гомосексуалистов. Были запрещены иконы гомосексуального содержания (Господь Бог Саваоф, Отечество и др.). Традиционный гомосексуализм остался и в XIX веке. Классические исследования гомосексуализма были проведены В.О.Мержеевским, Б.И.Пятницким. В 60-х годах известны массовые дела в Петербурге о проституции молодых банщиков на артельных началах и о проституции извозчиков. Такие явления не вызывали особого протеста у русского крестьянина, кроме старообрядцев.
В России с XII по XVI век известны массовые психопатии гомосексуального толка, когда женское население вырезалось полностью. Этот особенно характерно для верхнего и среднего Поволжья. Женоненавистничество как социокультурное оформление гомосексуализма и культ заложных покойников - это два факта, которые индуцируют массовые психопатии и явились основой такого феномена как кликушество (крайне низкий статус женщины и вера в колдовство).
- Специальность ВАК РФ24.00.01
- Количество страниц 150
Глава 1. Изучение феномена социальной деструкции в отечественной науке конца XIX - начала XX веков.
1.1 Становление и развитие теории социопсихических эпидемий в связи с развитием медицинских и обществоведческих дисциплин. 19
1.2 Беллетризированное и публицистическое изложение фактографического материала по проблеме социопсихических эпидемий.
1.3 Психологическое направление 47 -
1.4 Антропологическое направление 55
1.5 Социокультурное направление 59 -
Глава 2. Культурная специфичность феномена социопсихической эпидемии для России.
2.1 Двойственный характер религиозности русских как выявленная обобщающая характеристика традиционной культуры. 69
2.2 Отношение к погребению как специфическая черта этнической культуры. 72
2.3 Отношение к женщинам и детям как специфическая черта этнической культуры 77
2.4 Полихронная референция времени как механизм культурной динамики
Глава 3. Феномен деструкции в котексте социокультурного регулирования и коммуникации.
3.1. Обобщённые представления об обществе, как системе коммуникации. 104
3.2. Феномен социальной деструкции как форма социокультурного регулирования. Выводы. 121
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Социальная деструкция как объект культурологического анализа»
Актуальность проблемы, цели и задачи исследования.
Обоснование проблемы исследования и её актуальности. Изучение процессов социальной деструкции - распада и разрушения социальных структур, субструктур и различных социокультурных образований, занимает в спектре гуманитарных исследований весьма незначительное место. В то же время, если обратиться к реальной истории общества, то место деструктивных процессов окажется совсем иным, вероятно вполне сопоставимым с процессами созидания. Если описать современную цивилизацию как сумму информации, то вполне возможно представить количественное преобладание «забытого» и «утраченного» по отношению к сохраняемому и ныне существующему. Вряд ли найдутся возражения утверждению, что без «освобождения» места новому невозможно представить какое-либо реальное развитие. Принцип, наиболее подробно аргументированный в биологии и удачно выраженный Г.Зиммелем фразой «жизнь обретает форму, потому что живущее умирает», в методологическом отношении применим и к предмету изучения социальных наук. Выявление логики культурного развития, закономерностей и механизмов динамики культуры в полной мере невозможно без обобщённого осмысления процессов деструкции. Таким образом, теоретико-познавательный интерес к теме деструкции вполне оправдан, и ей необходимо перестать числиться маргинальной проблематикой в любых гуманитарных, в том числе культурологических, исследованиях.
То, что в данный момент деструктивные феномены отнюдь не являются в отечественной науке общепризнанным исследовательским объектом, в значительной мере связано с вопросом о легитимности их статуса в традиционно сложившемся контексте восприятия истории.
Одной из причин игнорирования деструктивных феноменов является господствовавшая в советский период в общественных науках прогрессистская ориентация, не признававшая онтологическую равнозначность в общественной жизни процессов созидания и разрушения. Если первое полагалось необходимой закономерностью, то разрушение общества рассматривалось или как случайность (природная катастрофа), или как самоочищение (классовый подход и пафос классовой борьбы). Принявшая характер государственной идеологии, декларировавшаяся вера в линейное развитие природы и общества проецировалась и на основания научного анализа исторических событий, которые рассматривались прежде всего не с позиции их целесообразности в адаптивном смысле, как приспособления к реальности, а с позиции целестремительности общественных процессов, требующей подчинения социальной реальности трансцендентному, некоей недосягаемой цели. При этом требование полноты анализа эмпирического материала подменялось оценкой соответствия изучаемых явлений принятой за «точку отсчёта» цели. При таком подходе в науку вносились существенные идеологические ограничения, которые в том числе определили и степень принятости сюжетов, связанных с деструктивными процессами, в качестве легитимного, тематически одобряемого исследовательского предмета.
Продолжавшееся длительное время ограничение познавательной активности в области изучения феноменов социальной деструкции привело к ситуации явной недостаточности их осмысления, что является веским аргументом в пользу активизации исследовательской практики в этом направлении.
Обратиться к более широкому изучению места и роли деструкции в социокультурном процессе заставляет не только научный интерес, но и реалии общественного развития России. Как те, что относятся к её историческому прошлому, нередко заново осмысляемому сегодня, так и те, что могут быть причислены к так называемым «негативным моментам», издержкам радикального реформирования российской государственности и общественной жизни (разрушение и утрата социальных институтов, изменения в структуре социального неравенства, «кризис и упадок культуры» и др.). Несомненно, что развитие концептуальных оснований исследования феномена деструкции в социокультурном процессе даёт возможность более глубокого и определённого осмысления такого рода явлений.
Однако, в свою очередь, теоретический анализ указанного феномена, философское обобщение, связанное с пониманием характера социальной деструкции, её роли в общественной жизни, предполагают опору на изучение конкретно-исторического материала. Такой материал позволяет проследить феноменологию деструкции, выявить её модификации в ходе культурно-исторического развития материала, и видеть не только начальные точки, но и конечные результаты процесса.
В этой связи существенный интерес для автора представляло выделение и изучение тех явлений в российской истории, которые могли бы стать значимой эмпирической базой для анализа процесса деструкции. В качестве такой базы были выбраны массовидные явления, представляющие собой, с одной стороны, форму процесса социальной деструкции, а с другой стороны, остающиеся своего рода «белыми пятнами» отечественной истории, не ставшими до сих пор предметом специального анализа исследователей. Речь идёт о так называемых «психических эпидемиях».
Временными границами для рассмотрения этого феномена определены XIX - начало XX века. Выбор этого временного периода как базового в значительной мере был сделан потому, что в то время интересующие нас явления получили достаточно полное описание в различного рода исторических документах и серьёзный научный анализ в ряде специальных работ отечественных исследователей.
В связи с вводом в культурологическое исследование не характерного для него понятия «психическая эпидемия», заимствованного из психологии и психиатрии, необходимо отметить, что в отечественной науке конца XIX - начала XX веков термином «психическая эпидемия» обозначались случаи массовой психопатии и истерии, во время которых происходило подчинение поведения известного числа людей некой «идее», выраженное в форме эмоционально окрашенных стереотипических действий. Для отдельного человека эти действия носили спонтанный характер, и подчинённость идее здесь следует отличать от подчинённости задаче: последнее (например, задача спасения) предполагает рациональный, вербализованный и определённым образом согласованный план, последовательно осуществляемый и направленный на конкретный результат. Подчинённость же идее спасения выражается в явно нерациональных, вначале как правило хаотических действиях массовидного характера.
Психические эпидемии» были признанным объектом исследования в течении всего XIX и первой половины XX веков. Исторически закреплённое в названии употребление слова «эпидемия» заключало в себе не указание на распространение болезни как отклонения от нормы человеческой природы, а являлось указанием только на интенсивность распространения в массовом масштабе ненормального для неё состояния, выраженного в последовательности нерациональных действий. В связи с этим, поскольку субъектом действия в психической эпидемии является институциолизированное сообщество, автор считает возможным использовать в работе термин «социопсихическая эпидемия» как более точно характеризующий предмет исследования. Термин «психическая эпидемия» сохраняется только в анализе процесса исторического формирования взглядов на проблему.
Предлагаемое исследование не претендует на построение общей теории социальной деструкции. Во многом потому, что проблема, выделенная в данной работе и подлежащая рассмотрению - это один из первых шагов к ликвидации серьёзного диссонанса между значительным объёмом фактического материала, связанного с деструкцией в социальной жизни, и степенью осмысления этого материала на теоретическом уровне. Происходящее в современной отечественной науке становление и развитие теории культурогенеза предполагает и поощряет возникновение работ, авторы которых стремятся дать философское осмысление отдельным феноменам общественной жизни, как конструктивному, так и деструктивному в ней, что в совокупности только и образует единый социокультурный процесс.
Представляется, что одним из важных шагов для устранения несоответствия между огромной фактографией, содержащейся в материалах исследований, накопленных «архивом» исторической науки, и выборочностью, локальностью их теоретического обобщения, является актуализация этого знания, внесение соответствующего исторического материала в среду активных научных дискуссий, «сверки» устоявшихся интерпретаций с такими параметрами, как объективность, обоснованность, адекватность. Немаловажное значение имеет и дополнение фактологического ряда с целью обеспечения адекватного задачам исследования эмпирического фундамента для обобщения.
Обращение к соответствующему массиву конкретно-исторических ч> и данных, отражающих интересующии нас аспект социальной жизни в России XIX - начала XX веков позволяет также провести анализ особенностей изучаемого феномена в сравнении с аналогичными явлениями европейской жизни. В частности, такая специфика должна быть в первую очередь выявлена в особенностях институциональной преемственности деструктивно ориентированных действий, поведенческих стереотипов и связанных с ними культурных санкций.
Степень разработанности проблемы. Теоретические предпосылки исследования. Это особенно важно, так как в современном гуманитарном знании происходит как бы «обратный процесс». В широкой сфере научно-гуманитарной деятельности интерес к проблеме осмысления «психических эпидемий» и близких к ним социопсихическим феноменам по преимуществу разрешается в лишённом комментариев переиздании классических работ европейских авторов, при участии которых в своё время возникло изучение социопсихических эпидемий (Г.Тард, Г.Лебон, М.Нордау, Ч.Ломброзо и других), а также малосущественных компиляций (например: Орлов М.А. «История сношения человека с дьяволом»). Таким образом, речь идёт о своеобразной подмене книгоиздательской и книготорговой политикой современного научного анализа феномена социопсихических эпидемий, его смыслового и ценностного содержания, рассмотрения соотношения и взаимодействия социопсихических эпидемий с целостной структурой общества. Исключения незначительны, например переводы работ французского исследователя С.Московичи, но никакого соотнесения западного теоретического наследия с материалом отечественной истории нет.
Всё это при том, что в русской науке XIX - начала XX веков был накоплен огромный материал по поведенческой и социальной организации, специфической культуре массовых психопатических явлений и оргиастико-экстатической религиозности. Была проведена значительная работа по теоретическому изучению психических эпидемий, их психических, социальных и культурных механизмов. Среди психологических исследований можно назвать работы Н.П.Бруханского, В.Х.Кандинского, В.М.Бехтерева, Н.Н.Баженова, В.С.Яковенко, Н.Н.Реформатского, М.И.Гуревича, А.А.Токарского, П.Е.Астафьева, А.Д.Коцовского, П.А.Преображенского, И.А.Сикорского,
Н.В.Краинского, С.О.Штейнберга, Д.Г.Коновалова; как пример социологического анализа можно привести работы А.И.Шингарёва, Н.Н.Фирсова, М.Н.Гернета, Н.А.Вырубова; примером культурологического анализа являются работы В.И.Жмакина, Е.А.Кожевниковой, Ф.Е.Будде, Д.Н.Дубакина, И.В.Преображенского, А.П.Щапова, С.С.Шашкова, Н. Д. Сергеевского, В.С.Иконникова и других. Поэтому в диссертационном исследовании сознательно поставлен акцент на изучение именно национальной научной традиции, поскольку возвращение к забытому отечественному культурному наследию сегодня в достаточной степени актуально само по себе.
В советское время изучение социопсихических эпидемий было искусственно прервано в угоду идеологической доктрине о построении бесклассового общества, не имеющего, якобы, внутренних противоречий, способных вызвать массовые психопатии. Исследования по этой теме даже в психологии и психиатрии были отчасти полностью прекращены, отчасти переведены в разряд закрытых для общественности исследовательских тем. В силу этого обстоятельства, социопсихические эпидемии и не могли быть для гуманитарных наук традиционным и объектом исследования, а их изучение не могло иметь самостоятельного статуса.
Можно констатировать, что в современной отечественной гуманитарной науке практически нет специальных работ, посвященных изучению социопсихических эпидемий, массив исторической фактографии не востребован. Разумеется, речь не идёт о полном исчезновении проблемы массовых психопатий из поля зрения гуманитариев. Но её упоминали преимущественно в связи с экскурсами в специальные области патопсихологических или психиатрических исследований, как исключительный объект медицинской науки или психоанализа. Такие упоминания, как правило, носили морально-оценочный или публицистический, но не строго-научный характер. Эта ситуация была характерна даже для медиевистики, на материале которой, как кажется, трудно избежать темы историко-культурного анализа таких массовых психозов, как борьба с ведьмами или детские крестовые походы.
Возвращение к теме началось в начале 1990-х годов в рамках социальной психологии. Первой серьёзной работой, перекликающейся с темой диссертации, было исследование В.А.Алексеева и М.А.Маслина о «психологической школе» в русской социальной философии. Однако и поныне разделы, посвящённые теме массовых психопатий, отсутствуют в учебниках и пособиях по истории, социальной философии, социологии и культурологии. В предметных указателях к такого рода изданиям, как правило, нет терминов, затрагивающих данную тему. В связи с забвением разработанной некогда терминологии, охватываемый ею значительный объём фактографического материала попросту игнорируется.
Необходимо отметить, что возможна позиция, принципиально отрицающая значимость социопсихических эпидемий в индустриальном и постиндустриальном обществе, и как следствие такой позиции -отрицание необходимости выделения в современной науке этих явлений в особую категорию социокультурных феноменов. Но независимо от этого, историческая значимость бывших в прошлом социопсихических эпидемий не подлежит сомнению, и их изучение имеет теоретическую значимость.
Лишь относительно недавно накопленный в науке огромный массив эмпирического материала по генезису и историческим трансформациям культурных форм стал получать в отечественном гуманитарном знании фундаментальное научное обобщение на современном теоретическом уровне.
Первоначально это происходило в рамках интереса к циклическим концепциям социокультурной динамики. Достаточно вспомнить, что институциолизация культурологии в 1990-х годах во многом проходила в связи со знаковым возвращением в сферу публичного научного обсуждения работ Н.Я.Данилевского, О.Шпенглера, А.Тойнби, П.А.Сорокина. Позже предметом дискуссий стала концепция длинных экономических волн М.И.Туган-Барановского, Парвуса (А.И.Гельфанда), Н.Д.Кондратьева. На данный момент в области социальных наук принципы научного исследования волновой динамики социокультурных процессов наиболее разработаны А.С.Ахиезером. Можно сказать, что в настоящее время положение о повторяемости стадий процессов самоорганизации социокультурных систем является своеобразной аксиомой.
Сегодня разрабатываются целостные концепции сущности культурной формы, условий и механизмов её генезиса, функционирования и изменчивости. В качестве примера можно привести известную работу А.Я.Флиера «Культурогенез». Появляются исследования, освещающие и деструктивные процессы как важнейшую составляющую культурогенеза (исследования А.П.Назаретяна, Л.А.Китаева-Смыка). Частные (личностные, и в том числе патопсихологические) аспекты также находят своё отражение в культурологических исследованиях. Можно выделить работы Ирины Паперно, и в том числе «Самоубийство как культурный институт». Интересный опыт обобщённого исследования характерных психологических и культурных особенностей русского этноса предложен в работе К.Касьяновой «О русском национальном характере».
Но всё-таки культурологическая разработка материала, связанного с деструкцией общества, пока не стала полноценным направлением научной деятельности, а существует как исследовательская перспектива. От исследований, основанных на идеографическом, описательно-систематизирующем методе, необходимо перейти к проблемно-логическому методу, к обобщённому осмыслению описанных в истории общества и культуры фактов и событий, к их типологизации с использованием сравнительного анализа, к построению моделей.
Исходя из вышеизложенного:
ОБЪЕКТОМ исследования является социальная деструкция как компонент и один из механизмов социокультурного процесса.
ПРЕДМЕТОМ исследования являются факторы и формы проявления социальной деструкции - феномен социопсихической эпидемии, нашедший своё проявление в социальной истории России XIX - начала XX веков.
Цель исследования и обобщённые задачи:
Целью исследования являлось выявление особенностей деструкции как социокультурного феномена и анализ её места в процессе культурогенеза, что создаёт предпосылки для дальнейшего развития культурологической теории по пути выработки целостного представления о функционировании механизмов социокультурной динамики.
Достижение этой цели предполагает решение следующих ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ:
1. Анализ процесса формирования взглядов на проблему социопсихических эпидемий как проявления социальной деструкции, в отечественной науке XIX - начала XX веков; выявление основных направлений и подходов с акцентом на специфику социокультурных идей в этой области.
2. Актуализация и изучение накопленного в истории отечественной науки документированного материала по выбранной теме, в том числе, путём введения в научный оборот невостребованных прежде данных; упорядоченье и систематизация этого материала.
3. Анализ эмпирического материала, описывающего проявления социальной деструкции общества в форме социопсихических эпидемий, выявление особенностей этого феномена и его роли в социокультурном процессе.
4. Анализ влияния социальных и культурных факторов на возникновение и развитие социопсихических эпидемий, включая объективные воздействия, целенаправленные практики и опосредующие их нормы и ценности.
5. Определение культурной специфики феномена социопсихических эпидемий как механизма социальной деструкции, в российском обществе в XIX - начале XX веков.
Источниковая база исследования:
В качестве основных источников для исследования были выделены: работы отечественных учёных XIX - начала XX веков, официальные документы, справочные и библиографические издания, статистические сборники, периодическая печать, материалы судопроизводства.
Научная новизна исследования заключается: в осуществлении специального анализа процесса социальной деструкции как составной части культурогенеза; в развитии знания о формах этого процесса на примере анализа социопсихических эпидемий; в обобщении значительного объёма ранее игнорировавшегося исторического материала, связанного как с освещением самого феномена социопсихических эпидемий в России, так и с отечественными традициями их изучения.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:
1. Процессы социальной деструкции, то есть распада и разрушения социальных структур, субструктур, культурных и субкультурных систем, должны стать признанным объектом исследования в философии культуры и культурологии. Их изучение - важнейшая составляющая теории культурогенеза, поскольку лишь в совокупности и взаимосвязи конструкции и деструкции этот процесс может быть осуществлён.
2. Изучение в культурологии процессов социальной деструкции предполагает в качестве одной из методологических посылок рассмотрение общества как совокупности стратегий, направленных на оптимизацию потребления ресурсов. В таком случае культура должна определяться как совокупность поведенческих моделей и средств их реализации и контроля за ними.
3. Одним из наглядных проявлений феномена социальной деструкции является процесс социопсихической эпидемии. Понятие «психическая эпидемия» было достаточно разработано и верифицировано отечественными учёными конца XIX -начала XX веков. Данное понятие может быть востребовано современными философией культуры и культурологией с соответствующей их научному контексту интерпретацией.
4. Проведённое исследование позволяет сформировать целостное представление о феномене психической эпидемии, которое возможно сформулировать в следующих позициях:
Социопсихическая эпидемия детерминируется такими условиями существования людей, адаптация к которым путём постепенной, эволюционной трансформации или модернизации существующих форм невозможна или малоэффективна; требуется возникновение принципиально новых форм деятельности и взаимодействия людей. Иными словами, причиной социопсихической эпидемии является кризис адаптации сообщества и функция социопсихической эпидемии - устранить из общества ненужную социокультурную информацию (институты, статусы, роли, культурные нормы и ценности) и этим подготовить новый этап социогенеза.
Кризис адаптации может охватить лишь часть поселенческой общности, выделяемой по территориальному признаку или по характеру имущественного и культурного неравенства. Общество может выступать по отношению к своей части, охваченной социопсихической эпидемией, как внешняя среда. Это принципиально меняет ситуацию развития психической эпидемии, делая возможным институциодизацию деструктивных элементов в относительно устойчивые социокультурные формы.
Изменение характера отношения человека с его природным или общественным окружением возможно только в социально протоморфной среде, в условиях низкого внутрипопуляционного давления на человеческое поведение. Достижение низкой плотности населения и является, объективно, целью психической эпидемии.
Достижение низкого внутрипопуляционного давления возможно тремя путями: сокращением рождаемости (дегенерация популяции), механическим сокращением численности в форме массовых убийств или самоубийств, миграцией. Все эти процессы связаны с социокультурной регуляцией.
Социопсихическая эпидемия невозможна без постоянного присутствия в обществе набора традиционных культурных санкций деструктивного характера и их институциональных носителей. 5. Реификация социальной деструкции происходит в форме культурных санкций. Для России XIX - начала XX веков специфическими санкциями были следующие: группа дегенеративных санкций -скотоложество и мужеложество, как традиционное поведение; группа санкций, детерминирующих механическое сокращение численности общества - санкции на религиозное детоубийство, самоубийство и убийство символической жертвы. Основной институциональной формой реификации деструктивных санкций было сектантство.
5. На основе анализа документированного материала, связанного с процессами социальной деструкции в России XIX - начала XX веков, можно сделать вывод о том, что этническое сообщество русских и ассоциированных с ними этносов представляло собой особый тип культуры по характеру референции времени. Осознание временной последовательности в поселенческих общностях носило двойственный характер: с одной стороны, соотнесение рутинной практики со связанным с сельскохозяйственным циклом формальным календарём и, независимо от этого, основанная на экстатической религиозности трансцендентная референция поведения. Этот тип культуры обозначен как «полихронный», и он полагается одним из факторов предрасположенности общества к процессам социальной деструкции, специфичным на тот период для России.
Заключение диссертации по теме «Теория и история культуры», Трошин, Андрей Алексеевич
2. Результаты исследования по теме диссертации в течении 19941998 годов были представлены в докладах и сообщениях на 11 международных, всероссийских и межвузовских конференциях. Среди наиболее значимых могут быть названы: «Русская провинция» (Кострома, 1994); «Высшее образование в России» (Ярославль, 1994); «Урбанизация и культурная жизнь Сибири» (Омск, 1995); «Крестьянство и власть» (Тамбов, 1995); «Взаимодействие национальных культур» (Астрахань, 1995); «Россия в XVIII веке» (Санкт-Петербург, 1996); «Россия в Новое время: личность и мир в историческом пространстве» (Москва, РГТУ, 1997); «Социальная антропология на пороге XXI века» (Москва, 1998).
3. Основные концептуальные положения исследования апробировались в педагогической практике автора, в том числе в чтении спецкурсов «Социокультурные основы исторической деструкции» и «Комментарии к особенной части русского права: преступления против веры и нравственности» в 1995 -1996 и 1996 -1997 учебных годах в Российском Государственном Гуманитарном Университете (РГГУ).
1. Сохранение языческой традиции культа заложных покойников в русской традиции конца XIX - начала XX веков // Всероссийская научная конференция «Русская провинция». Тезисы. Ч. 1. Кострома, 1994. С. 173- 175. (0,1 п.л.);
2. Роль высшего естественнонаучного образования в российском обществе второй половины XIX века // Международная научная конференция «Высшее образование в России». Тезисы. Вып. 1. Ярославль, 1994. С. 145-147. (0,1 п.л.);
3. Люмпенизация, как составляющая урбанизационных процессов // Всероссийская научно-практическая конференция «Урбанизация и культурная жизнь Сибири». Тезисы. Омск, 1995. С. 20-22. (0,1 п.л.);
4. «Тёмные» секты как форма люмпенизации русского крестьянства XIX века // Всероссийская научная конференция «Крестьянство и власть». Тезисы. Тамбов, 1995. С. 157 -159. (0,1 п.л.);
5. Переживание тотемизма и языческих табу как источник реконструкции агрикультуры // Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы археографии, источниковедения и историографии». Тезисы. Вологда, 1995. С. 243-245. (0,1 п.л.);
6. Синкретные трансформации традиции во взаимодействии национальных культур // Региональная научная конференция «Проблемы взаимодействия национальных культур». Тезисы. Ч. 2. Астрахань, 1995. С. 107-108. (0,1 п. л.);
7. Русское пореформенное крестьянство как модель исследования психологической антропологии // Всероссийская научно-практическая конференция «История России XIX - XX веков: историография, источниковедение». Тезисы. Нижний Новгород, 1995. С. 113 - 114. (0,1 п.л.);
8. Новгородская губерния по данным уголовной статистики последней трети XIX века // Научная конференция «Прошлое Новгорода и Новгородской земли». Тезисы. Новгород, 1995. С. 120 -122. (0,1 п.л.);
9. Психопатические эпидемии в России XVIII века // Республиканская научная конференция «Россия в XVIII веке: войны и внешняя политика, внутренняя политика, экономика и культура». Тезисы. Санкт-Петербург, 1996. С.89- 90. (ОД п.л.);
10. Представление иконы как источника информации о русском обществе XVII века // Вопросы искусствознания. Москва,1997, № 1. С.208 - 214. (0,6 п.л.);
И. Женская истерия как референция времени // Научная конференция РГГУ «Россия в Новое время: личность и мир в историческом пространстве». Тезисы. Москва, 1997. С. 67-69. (0,1 п.л.);
12. Воспроизводство агентов разрушения общества и культуры как объект исследования культурологии // Культурология и культуроведение: концептуальные подходы, образовательные практики. Сборник статей. Москва, 1998. С. 120 -126. (0,5 п.л.).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Специфика исследования.
Философское содержание данной работы заключается в опыте рационального предположения о природе социальной деструкции. Формулирование правдоподобной гипотезы является начальным этапом любого исследования, и этап этот необходимо связан с философским дискурсом: рассуждение о проблеме позволяет создать исходный теоретический материал, допускающий проверку научными методами. о
В теоретической части данной работы ведущим было стремление к максимальной ясности выработанной гипотезы, что, допускаю, может создать впечатление некоторой упрощённости собственно философской составляющей диссертации. Причиной этому послужила отмеченная во введении общественная заинтересованность в исследованиях, посвящённых изучению социальной деструкции, заставляющая в первую очередь задуматься о создании дискуссионного поля, позволяющего вести содержательное обсуждение проблемы. Стремление «вбросить» дискуссионный материал оправдывает и актуализацию научного архива, являющуюся важной составляющей исследования.
Эвристическое значение результатов исследования процессов социальной деструкции.
В результате решения поставленных задач в диссертационном исследовании удалось достичь поставленной цели:
Выявить особенности деструкиии как соииокультурного феномена. определить сущность социокультурных трансформаций деструктивного типа в социальной системе, выявить условия проявления таких трансформаций, +выявигь и объединить закономерности протекания деструктивных процессов в целостную систему, показав ее трёхуровневый характер.
Показать значимость деструкиии в проиессе культурогенеза постоянность её присутствия. социальная деструкция существует в обществе в виде набора традиционных санкций,
Установлена специфичность деструктивных санкций для России XIX - начала XX веков, выявлен институциональный характер социальной деструкции, +показано, что социальная деструкция является объектом культурологических исследований, и более того, поскольку деструкция всегда проявляется как социокультурный процесс, она является преимущественным объектом именно культурологического анализа.
Создать предпосылки для дальнейшего развития культурологической теории, в процессе проведения диссертационного исследования был выявлен и актуализирован значительный объём фактографического материала, что является эмпирической базой для дальнейшего развития культурологической теории, в исследовании обобщён прежде игнорировавшейся культурологией значительный объём историко-научного материала.
В процессе диссертационного исследования показана возможность формализации культурологического знания на примере моделирования социокультурных трансформаций.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ определяется возможностью использования её результатов:
Для дальнейшего развития культурологической теории и в частности -теории социокультурной динамики,
Для разработки механизмов анализа современных общественных процессов с точки зрения их конструктивности или деструктивности,
В образовательной системе при подготовке специалистов в области социальной и культурной истории России.
Апробация работы проходила в следующих формах:
1. Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседании сектора культурологических проблем образования Российского института культурологии Министерства культуры Российской Федерации и Российской академии наук 24 февраля 1999 года.
Список литературы диссертационного исследования кандидат философских наук Трошин, Андрей Алексеевич, 1999 год
1. Айвазов Д.Г. К диссертации ДХ.Коновалова Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве». - М., 1909.
2. Айвазов Д.Г. Материалы для исследования русскогомистического сектантства В 3 тт. Пг., 1915.
3. Айрлэнд В. Психозы в истории. Харьков, 1887.
4. Алексеев В.А., Маслин М.А. Русская социальная философия конца XIX начала XX века: психологическая школа. - М.: Исследовательский центр по проблемам управления качеством подготовки специалистов, 1992.- 192 с.
5. Алексей, епископ Чистопольский. Религиозно-рационалистические движения на юге России во второй половине XIX столетия. Казань, 1909.
6. Алексий (Дородницын А.Я.) Внутренняя организацияобщин южно-русских необаптистов // Православный собеседник.1. Казань, 1908.
7. Андреев В.В. Раскол и его значение в народной русской истории. -СПб., 1870.
8. Арсеньев И. А. Секта скопцов в России. Берлин, 1874.
9. Астафьев П.Е. Психический мир женщины: его особенности, превосходства и недостатки. М., 1881.
10. Ю.Астафьев П.Е. Понятие психического ритма как научное основание полов. М., 1882.
11. Бабинский Ж. Моё понимание сущности истерии и гипнотизма // Врачебный вестник. 1907, №№ 7 -10.
12. Баженов Н.Н. Символисты и декаденты. М., 1899.
13. Баженов Н.Н. Психиатрические беседы на литературные и общественные темы. М., 1903.
14. Баранов Е.З. Хлысты и скопцы. М., 1912.
15. Бернацкий В.А. Самоубийства среди воспитанников военно-учебных заведений. СПб., 1911.
16. Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. 3-е изд. СПб., 1908.
17. Бирюков П.И. Малеванцы. М., 1907.
18. Бирюков П.И. Духоборцы. М, 1908.
19. Богданович С.Н. О видениях штундистов. Киев, 1908.
20. Богословский Н. Новгородский сборник. Вып. 1. Новгород, 1865.
21. Богословский Н. Материалы для истории // Новгородский сборник. Вып. 5. Новгород, 1866.
22. Бонч-Бруевич В.Д. Животная книга духоборцев. СПб., 1909.
23. Бруханский Н.П. Очерки по социальной психопатологии. М., 1928.
24. Будде Е.Ф. Положение русской женщины по бытовым песням. -Воронеж, 1883.
25. Будилова Е.А. Социально-психологические проблемы в русской науке. -М.: Наука, 1983.
26. Будула Э.М. К сравнительной расовой психиатрии. Юрьев, 1914.
27. Буткевич Т.И. Штундо-баптизм. Харьков, 1909.
28. Бычков И.Я. Детоубийство в современных условиях. М.: Государственное медицинское издательство, 1929. - 62 с.
29. Войтоловский Л.Н. Очерки коллективной психологии. В 2-х частях. М.: Государственное издательство, 1925. Часть 1. Психология масс; 87 с. часть 2. Психология общественных движений; 118 с.
30. Волков H.H. Секта скопцов. Л., 1930.
31. Воронов С. Малеванщина и мистицизм // Кавказ, 1893, №№ 283 -285.
32. Вундт В. Проблемы психологии народов // Преступная толпа. Сборник. М.: КСП+, 1998. - с. 195 - 308.
33. Вырубов Г.Н. Предисловие // Литтре Э. Несколько слов по поводу положительной философии. Берлин, 1865.
34. Вырубов H.A. Земельный фактор в этиологии душевных заболеваний // Современная психиатрия. 1914, № июль.
35. Гельпах В.Г. Психические эпидемии. СПб., 1908.
36. Герасимов М.К. Некоторые обычаи, приметы и поговорки крстьян Череповецкого уезда // Этнографическое обозрение. М., 1894, № 1.
37. Гернет М.Н. Детоубийство. М., 1911.
38. Гиляров А.Н. Гипнотизм по учению школы Шарко и психологической школы. Киев, 1894.
39. Гогель С.К. Курс уголовной полигики в связи с уголовной социологией. СПб., 1910.
40. Голубев С.Т. Лицемерие как основная черта наших мистических сект // Голос Церкви, 1914, № 3.
41. Грегорович Ф.В. Криминальная ашропология под видом судебной медицины в университетском преподавании. Казань, 1896.
42. Гук Е.Д. Анализ социальных факторов нервно-психических явлений в религиозной секте пятидесятников // Советская психоневрология. Харьков, 1933, № 3.
43. Гумилевский Н. Разбор основных положений хлыстовства. -Киев, 1914.
44. Даль В.И. Исследование о скопческой ереси. СПб., 1855.
45. Данилевский В.Я. Гипнотизм. Харьков, 1889.
46. Данилевский В.Я. Единство гипнотизма у человека и животных. -Харьков, 1891.
47. Данилло С.Н. К вопросу о значении менструального периода при душевных болезнях. СПб., 1881.
48. Добротворский И.М. Люди Божии. Секта так называемых духовных христиан. Казань, 1869.
49. Евлахов А.М. Конституциональные особенности психики Л.Н.Толстого. -М., 1995.
50. Егоров Б.Е. Гипноз. Психотерапия. Бессознательное. М.: НПО Прагма, 1993.
51. Ефименко А. Крестьянская женщина // Дело. 1873, №№ 2, 3.
52. Жмакин В.И. Русское общество XVI века. СПб., 1880.
53. Иваницкий Н. Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность // Живая старина. СПб., 1898, № 1.
54. Иванов Н.В. Возникновение и развитие отечественной психотерапии. -М.: 1954.
55. Иконников B.C. Русская женщина накануне реформы Петра Великого и после него. Киев, 1874.
56. Исполатов Е. В Новгородской глуши // Естествознание и география. М., 1904, № 2.
57. Исторические очерки народного миросозерцания и суеверия // Журнал Министерства Народного Просвещения. СПб., 1863, №№>1,3,4,6.
58. Календарь в культуре народов мира. Сборник статей. М.; Наука. Восточная литература, 1993. - 272 с.
59. Кальнев М.А. Русские сектанты, их учение, культ и способы пропаганды. Одесса, 1911.
60. Кандинский В.Х. Общепонятные психологические этюды. М., 1881.
61. Каннабих Ю. История психиатрии. М.: ЦТР МГП ВОС, 1994. -528 с.
62. Капгерев П.Ф. Толпа и отдельная личность // Образование. 1893, №12.
63. Каптерев П.Ф. О подражательности // Образование. 1893, №№ 7, 8.
64. Кареев Н.И. Основы русской социологии. СПб.; издательство Ивана Лимбаха, 1996. - 368 с.
65. Касьянова К. О русском национальном характере. М.; Институт национальной модели экономики, 1994. - 367 с.
66. Кирсанова Л. Инфантилизм и деструкция личности // Сфинкс. Петербургский философский журнал. СПб., 1994, № 1. С. 42 ~ 52.
67. Китаев-Смык Л.А. Динамика деструкции социокультурных процессов: типы и модели поведения. Рукопись. Архив РИК МК РФ и РАН.
68. Клементовский А. Кликуши. М., 1860.
69. Ковалевский М.М. Сочинения в двух томах. СПб.: Алетейя, 1997-286с, 414с.
70. Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы их истории. В 2-х томах. M.: ТЕРРА, 1995.
71. Ковалевский П.И. Вырождение и возрождение, Гений и сумасшествие. СПб., 1899.
72. Ковалевский П.И. Русский национализм и национальное воспитание. СПб., 1912.
73. Козлов A.A. Гипнотизм и его значение для психологии и метафизики. Киев, 1887,
74. Колосовский П. Очерк исторического развития преступлений против жизни и здоровья. М., 1857.
75. Коновалов Д.Г. Психология сектантского экстаза. СПб., 1908.
76. Коновалов Д.Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Часть 1, выпуск 1. Физические явления в картине сектантского экстаза. Сергиев Посад, 1908.
77. Коновалов Д.Г. Возникновение энтузиастических сект // Журнал невропатологии и психиатрии имени С.С.Корсакова. 1912, кн. 2, 3.
78. Копельман А. Чем должна быть коллективная психология. -Одесса, 1908.
79. Краинский Н.В. Порча, кликуши и бесноватые как явления русской народной жизни. Новгород, 1900.
80. Кутепов К.В. Секты хлыстов и скопцов. Казань, 1882.
81. Кутепов Н. Разбор хлыстовского учения о пророках и пророчицах. Новочеркасск, 1905.
82. Лахтин М.Ю. Бесоодержимость в русской деревне. 2е изд. М., 1917.
83. Лебедев A.C. О борьбе власти с суевериями // Киевская старина. 1890, № 1.
84. Лебон Г. Психология толп // Психология толп. Сборник. М.: КСП+, 1998. - с. 13-254.
85. Левенстим А. Суеверие и уголовное право. СПб., б/г.
86. Лилиенфельд П.Ф. Мысли о социальной науке будущего. Ч. 1. -СПб., 1872.
87. Локоть Т.В. Оправдание национализма. Киев, 1910.
88. Луйга И. Призрение душевно-больных в Прибалтийском крае. -Юрьев, 1904.
89. Манасеина М.М. Ненормальности мозговой жизни современного культурного человека. СПб., 1886.
90. Маргаритов С. История русских рационалистических и мистических сект. 2е изд., Кишинёв, 1902.
91. Маслов Павел. Перенаселение русской деревни. Опыт монографии. -М.: Государственное издательство, 1930. -142 с.
92. Маторин Н.М. Религия у народов Волжско-Камского края прежде и теперь. М., 1929.
93. Мельгунов С.П. Сектантство и психиатрия // Русское богатство. СПб., 1910, №6. С. 1-35.
94. Мельгунов С.П. Из истории религиозно-общественных движений в России XIX века. М., 1919.
95. Мельгунов С.П. Религиозно-общественные движения XVII -XVIII веков в России. М., 1922.
96. Мелышков-Печерский П.И. Полное собрание сочинений. М.: Маркс, 1909.
97. Мендельсон А.Л. Неврастения. СПб.: 1912.
98. Минх А.Н. Коленская волость // Саратовский сборник. -Саратов 1881. Т. 1. С. 65 -176.
99. Минх А.Н. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки Саратовской губернии // Записки ИРГО. 1890, т. 19, вып. 2, с. 1 152.
100. Мицкевич С.И. Истерия на крайнем северо-востоке Сибири // Обозрение психиатрии, 1903.
101. Мочутковский О.О. Об истерических формах гипноза. -Одесса, 1888.
102. Мошков В.А. Новая теория происхождения человека и его вырождения. Варшава, 1907.
103. Мошков В.А. Механика вырождения. Варшава, 1910.
104. Московичи С. Век толп. Пер. с фр. М.: Центр психологии и психотерапии, 1996. - 478 с.
105. Московичи С. Машина, творящая богов. Пер. с фр. М.: КСП+, 1998.-560 с,
106. Муратов М.В. Песни Нового Израиля // Живая старина. 1914, т. 23. С. 373-394.
107. Новомбергский Н.Я. По пути к вырождению. СПб.: Гигиена и санитария, 1913.
108. Нордау М. В поисках за истиной (Парадоксы). Пер. с нем. -СПб., ФЛавленков, 1891. 250 с.
109. Нордау М. Вырождение. Современные французы. Пер. с нем. -М.: Республика, 1995. 400 с,
110. Озерецковский А.И. Об истерии в войсках. М.: 1891.
111. Орлов М.А. История сношений человека с дьяволом. М.; Республика, 1992.-352 с.
112. Осипов В.П. О политических или революционных психозах. -Казань, 1910.
113. Остроумов С.С. Преступность и её причины в дореволюционной России. М., 1960.
114. Паперно Ирина. Самоубийство как культурный институт. М.: Новое литературное обозрение, 1999. - 256 с.
115. Пеликан Е.В. Судебно-медицинские исследования скопчества. -2-е изд. СПб., 1875.
116. Плотников К. История и обличение русского сектантства. 3-е изд. Пг., 1916.
117. Попов Г. Русская народно-бытовая медицина // Торэн М.Д. Русская народная медицина и психотерапия. СПб.: Литера, 1996. С. 277-477.
118. Попов Н.М. Эпилепсия в истории Европы XIX столетия. -Казань, 1899.
119. Португалов Ю.В. К психологии русских литературных течений эпохи 1860 -1890 годов. Оренбург, 1908.
120. Потанин Г. Этнографические заметки по пути от г. Никольска до г. Тотьмы // Живая старина. СПб., 1899, вып. 1 и 2.
121. Преображенский И.В. Нравственное состояние русского общества XVI века по сочинениям Максима Грека и современным ему авторам. -М., 1881.
122. Преображенский П.А. Нервно- и душевно-больные как объект культа // Обозрение психиатрии, 1911, № 3.
123. Пругавин A.C. Самоистребление // Русская мысль. 1895, книги 1,2,7.
124. Прыжов И.Г. Русские кликуши // Прыжов И.Г. 26 московских пророков, юродивых, дур и дураков. М., 1996. - 214 с.
125. Пушкарёв И. Описание Вологодской губернии. СПб., 1846.
126. Раковский X. Этиология преступности и вырождения. М-Л., 1927.
127. Рейснер М.А. Проблемы социальной психологии. Ростов-на-Дону.: Буревестник, 1925.- 135 с.
128. Реньяр П. Умственные эпидемии. Спб., 1889.
129. Реутский Н. Люди Божии и скопцы. М., 1872.
130. Рождественский Арсений. Хлыстовщина и скопчество в Росси. -М., 1882.
131. Рождественский Т. С. и Успенский М.И. Песни русских сектантов-мистиков // Записки ИРГО по отделению этнографии. 1912, т. 35.
132. Рожков Н.А. Эволюция хозяйственных форм. ~М. 1905.
133. Розанов В.В. Русские могилы // Розанов В.В. В тёмных религиозных лучах. М.: Республика, 1994. - с. 192 - 252.
134. РозенбахП.Я. Современный мистицизм. Спб.: 1891.
135. Розенбах П.Я. Учение о нравственном помешательстве. СПб.: 1893.
136. Розенбах П.Я. Истерия и неврастения в общедоступном изложении. СПб.: 1899.
137. Розенбах П.Я. Современная война и истерия // Вестник Царскосельского района. СП., 1915, № 8.
138. Розенштейн Л.М. Психические факторы в этиологии душевных болезней. - М., 1923.
139. Романов C.B. Смертные казни младенцев. Полтава, 1909.
140. Рыбаков Ф.Е. Гипнотизм и психическая зараза. М., 1905.
141. Рыбаков Ф.Е. Душевные расстройства в связи с последними политическими событиями. -М., 1906.
142. Рыбаков Ф.Е. Границы психического здоровья и помешательства. -М.: 1906.
143. Рыбаков Ф.Е. Современные писатели и больные нервы. М., 1908.
144. Рыбаков Ф.Е. Влияние научных теорий в психиатрии на распознавание душевных болезней // Труды психиатрической клиники Московского университета. 1913, Ш 1.
145. Рыбаков Ф.Е. Влияние культуры и цивилизации на душевные заболевания. -М., 1914.
146. Рыбаков Ф.Е. Циклофрения. М., 1914.
147. Рындзюнский Г.Д. "Бытовое детоубийство" // Вопросы социальной гигиены, физиологии и патологии детского возроста. М.: Госмедиздат, 1929. С. 72 82.
148. Сапожников Д.Й. Самосожжения в русском расколе. М., 1891.
149. Сахаров Ф. Литература истории и обличения русского раскола. -СПб., 1900.
150. Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII века. -СПб., 1887.
151. Сигеле С. Преступная толпа // Преступная толпа. Сборник. -М.:КСП+, 1998.-с. 11-116.
152. Сикорский И.А. Эпидемические вольные смерти и смертубийства в Терновских хуторах (О 25-ти заживо погребённых) // Сикорский И.А. Сборник научно-литературных статей. Книга 1. Киев, 1899. С. 165 258.
153. Сикорский И.А. Психопатическая эпидемия 1892 года в Киевской губернии // Сикорский И.А. Сборник научно-литературных статей. Книга 5. Киев, 1900. С. 44 -103.
154. Синявский А.Д. Иван-дурак.-Paris, 1991.
155. Скворцов А. Бережнослободская волость Тотемского уезда // Вологодский сборник. Выпуск 2. Вологда, 1881.
156. Скворцов В.М. Миссионерский спутник. 2-е изд. СПб., 1902.
158. Смирнов С.И. Царство толпы. СПб., 1906.
159. Сперанский Н.В. Ведьмы и ведовство. Очерк по истории церкви и школы в Западной Европе. М. : 1906.
160. Субботин Н.И. По вопросу о заживо погребённых // Московские ведомости. 1897, № 206.
161. Сумцов Н.Ф. Культурные переживания. Киев, 1890.
162. Тард Г. Мнение и толпа // Психология толп. Сборник. М.: КСП+, 1998.-с. 255-408.
163. Тимашев Н.С. Религиозные преступления по действующему русскому праву. Пг., 1916.
164. Токарский А.А. Психические эпидемии. Речь, произнесённая на четвёртом годичном заседании общества невропатологов ипсихиатров, состоящего при Императорском Московском университете, 24 октября 1893 года. -М., 1893.-24 с.
165. Токарский A.A. Меряченье и болезнь судорожных подёргиваний. 2-е изд. М., 1893.
166. Трегубое И.С. Предисловие // Кондрат Малеванный. Приветствие русскому народу. М.: Посредник, 1907.
167. Трошин Г.Я. Гений и здоровье Н.В.Гоголя // Вопросы философии и психологии. М., кн. 76 78.
168. Ухач-Огорович H.A. Психология толпы и армия. Киев, 1911.
169. Федотов Д.Д. Очерки по истории отечественной психиатрии. -М.: Медгиз, 1957.
170. Флиер А.Я. Культурогенез. М.; РЖ, 1995. - 128 с.
171. Флоринский В.М. Усовершенствование и вырождение человеческого рода. СПб., 1866. - 206 с.
172. Фрейд 3. Психология масс и анализ человеческого «Я» // Преступная толпа. Сборник. М.: КСП+, 1998. - с. 117 -194.
173. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивное™ Пер. с англ. М.: Республика, 1994. - 447 с.
174. Хорошко В.К. Самоубийство детей. М., 1909. -116 с.
175. Черткова А.К. Что поют русские сектанты. М.: П.Юргенсон, 1911.
176. Шашков С.С. Главные этапы в истории русской женщины // Дело. СПб., 1871, №№1-4.
177. Шашков С.С. Исторические судьбы женщины, детоубийство и проституция. СПб., 1871,623 с.
178. Шейнис JI. Эпидемические самоубийства // Вестник воспитания. 1909, № 1, с. 129-150.
179. Шейнис Л. Проблемы криминологии и социальной психологии. -Paris, 1926.-408 с.
180. Шендерович Л.М. Очерки развития отечественной невропатологии. Красноярск.: 1962.
181. Шингарёв А.И. Вымирающая деревня. 2-е изд. СПб., 1907.
182. Шоломович A.C. Наследственность и физические признаки вырождения у душевно-больных и здоровых. Казань, 1913.
183. Штейнберг С.И. Кликушество и его судебно-медицинское значение // Архив судебной медицины и общественной гигиены. СПб., 1870, №2.
184. Щапов А.П. Положение женщины в России по до-Петровскому воззрению // Дело. 1873, №№ 4,6.
185. Щапов А.П. Социально-педагогические условия умственного развития русского народа. СПб., 1869. 332 с.
186. Щапов А.П. Влияние общественного миросозерцания на социальное положение женщины в России // Дело. 1871, №№ 7, 8.
187. Щёкотов И.П. Сельскохозяйственная культура в северных уездах Вологодской губернии // Сельское Хозяйство и Лесоводство. 1882, № январь, февраль. С. 41 -57,101 -122.
188. Щёкотов И.П. Лесопольная система хозяйства // Сельское Хозяйство и Лесоводство. 1884, № N° октябрь, ноябрь. С. 65 87, 175 - 204.
189. Щербина Ф.А. Сводный сборник по 12 уездам Воронежской губернии. Воронеж. 1897.
190. Якобий П.И. Религиозно-психические эпидемии // Вестник Европы. 1903, №№ 10,11.
191. Якобий П.И. «Антихрист». Судебно-психиатрический очерк // Современная психиатрия. 1909, Книги 6-8.
192. Яковенко B.C. Психическая эпидемия на религиозной почве в Ананьевском и Тираспольском уездах Херсонской губернии // Современная психиатрия, 1911, № 4.
193. ЯкушкинЕ.И. Обычное право. Ярославль, 1896.
194. Ярошевский М.Г. История психологии. М.: Мысль, 1985. -575 с.
195. Ясевич-Бородаевская В.й. Сектантство в Киевской губернии. -СПб., 1902.
196. Литература на иностранных языках:
197. Bell D. The End of Ideology. Glencoe (USA), The Free Press, 1960.
198. BrochH. Massenwahntheorie. Fractor-sur-le-Main, Suhrkamp, 1979.
199. Oberschall A. Social Conflicts and Social Movements. Inglewood
200. Cliffs, Prentice Hall Inc., 1973.
201. Sherif M. & Sherif C. An Outline of Social Psychologie. Londress,1. Harper & Rom, 1956.
202. Biddis M.D. I/Ere des masses. Paris, Seuil, 1980.
203. Mackay C. Extraordinary Popular Delusions and the Madness of the
204. Crowd. Wells (USA), L.C.Page, 1932.
205. McDougall W. The Group Mind. Cambridge, C.U.P., 1920.
206. Whitehead A.N. The Function of Reason. Boston, Beacon, 1967.
207. Rauschining H. The Voice of Destraction. New York, Putnam, 1940.
208. Anderson E. Plants, Man and Life. Boston, 1952.
209. Bergounioux F.M. Notes of the Mentality of Privitive Man. Chicago, Aldine, 1961.
210. Ardrey R. The Territorial Imperative. New York, Atheneum, 1966.
211. Davie M.R. The Evolution of War. Port Washington, Kennikat Press, 1929.
212. Fletcher R. Instinct in Man. London, Allen & Unwin, 1968.
213. Gill D.G. Violens Against Children. Cambridge, Harvard U.P., 1970.
214. Gower G. Man has No Killer Instinct. New York, Oxford U.P., 1968.
215. Freeman D. Human Agression in Antropological Persrective. New York, Academic Press, 1964.
216. Jay M. The Dialectical Imagination. Boston, Little-Brown, 1973.
217. Mahler M.S. On Human Symbiosis. New York, I.U.P., 1968.
219. Mayo E. The Human Problems of an Indastrial Civilization. New York, The Macmillan Co., 1933.
220. Evans-Pritchard E. A histori of antropological background, New York, Basic Books, 1981.
221. Sperber D. On antropological Knowleadge. Cambridge, C.U.P., 1985.
222. Asch E. Social Psychology. New York, Prentice Hall, 1952.
223. Lilienfeld P. Gedanken über die Socialwissenschaft der Zukunft. T. 1 -5.1873-1881.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.
На правах рукописи
Сафронова Марина Николаевна
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФЕНОМЕНА НАУЧНОГО АРХИВА
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
(на примере научной деятельности
Александра Ивановича Михайловского-Данилевского)
Специальность 24.00.01 - теория и история культуры
диссертации на соискание ученой степени
кандидата культурологии
Москва 2007
Диссертация выполнена в секторе культурологических проблем социализации Российского института культурологии
Научный руководитель: кандидат философских наук
Трошин Андрей Алексеевич
Официальные
оппоненты:
доктор исторических наук Мохначева Марина Петровна
кандидат культурологии Кудрявцева Елена Борисовна
Ведущая организация - Московский педагогический государственный университет
Защита состоится “23” апреля 2007 г. в ____ часов на заседании Диссертационного совета Д 210.015.01 в Российском институте культурологии по адресу: 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, д. 20, комн. 13.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского института культурологии.
г. Москва, Берсеневская наб., д. 20.
Ученый
секретарь Диссертационного
совета,
кандидат
философских наук
В.О. Чистякова
I. Общая характеристика работы
Актуальность исследования. Проблемы культурной памяти и мемориализации как основы переосмысления прошлого и поиска социокультурной идентичности занимают в современном российском обществе заметное место. Эта проблема затрагивает самые разные сферы деятельности, в том числе, она активно обсуждается и применительно к такой области социальной практики, как научная деятельность. Обращение заново к своим корням, переосмысление многого и многих в отечественной истории науки - процессы, ставшие в течение последних двух десятилетий неотъемлемой частью развития российского наукознания, анализа истории науки в контексте более общего культурно-исторического процесса.
Одним из важнейших институтов, посредством которых обеспечивается и репрезентируется процесс мемориализации культуры, происходит включение того или иного научного события, достижения, результата в культурное время и пространство, является научный архив. В России научный архив как культурный феномен появляется в XVIII в., благодаря деятельности академиков и корреспондентов Санкт-Петербургской Академии наук. Важную роль для изучения практик мемориализации играют научные архивы первой половины XIX в., поскольку их формирование было тесно связано с развитием практик историописания, которые в современном гуманитарном знании рассматриваются как значимые культурные практики.
В историографии в большей степени изучены принципы исторического письма Н.М. Карамзина, М.Т. Каченовского, И.Ф.Г. Эверса, Н.А. Полевого и других историков первой половины XIX в. Историки культуры особенное внимание уделяли Н.М. Карамзину, однако на примере его творчества невозможно рассмотрение целого ряда культурологических проблем, в частности: феномена научного архива, проблемы взаимоотношения практик историописания и коллекционирования, функционирования мемуаристики в культурной традиции эпохи.
Одним из наиболее ярких и типологически значимых примеров института научного архива, со всеми его особенностями, атрибутами, позволяющими увидеть характер возникновения и функционирования научного архива в социокультурном контексте, является научный архив Александра Ивановича Михайловского-Данилевского (1789-1848). Это — одно из немногих собраний первой половины XIX в., состав которого возможно реконструировать с достаточно высокой степенью соответствия “первоначальному” состоянию. А.И. Михайловский-Данилевский — крупный военный историк XIX в. Самый известный труд ученого “Описание Отечественной войны в 1812 году”, созданный по повелению императора Николая I, благодаря фактографии и обширной источниковой базе сразу был признан класси-ческим и ре-комендован для воспитания учащихся в гражданских и военных учебных заведениях. В течение всего пяти лет он выдержал три переиздания. Михайловский-Данилевский, по повелению императора Николая I, создал также целый ряд исследований по российской военной истории конца XVIII — первой четверти XIX в., призванных составить единый комплекс исследований, посвященных военной истории России царствований Павла I и Александра I.
Михайловским-Данилевским был собран огромный научный архив, включавший собственные мемуары, официальные источники из местных и центральных архивов, воспоминания участников войн. Его архивное наследие было слабо изучено по причине раздробления собрания после смерти ученого .
Степень разработанности проблемы. Тема данного диссертационного исследования является междисциплинарной по своему характеру, она разрабатывается на стыке истории культуры, истории науки, источниковедения, историографии и архивоведения. Следует отметить, что изучение науки как явления культуры является сложившимся исследовательским направлением, представленной в отечественной литературе такими именами, как Н.С.Злобин, В.Н.Порус, И.Т.Касавин, Г.Волков и др.
Из различных форм коллекционирования к настоящему времени наиболее изучены художественные коллекции, к мемориальным функциям которых относят, прежде всего, формирование коллективной памяти , и естественно-научные коллекции, определяемые как целевые собрания предметов, появление и рост которых вызваны нуждами науки и в то же время стимулируют развитие последней .
Научные архивы, безусловно, относятся к формам научного коллекционирования, именно поэтому их функционирование тесно связано с развитием исследовательских практик и методик историописания. Однако практические исследования научных архивов, как правило, ориентированы на изучение узко специальных вопросов, историографических, источниковедческих и архивоведческих. Определение междисциплинарного исследовательского поля, объединяющего эту проблематику, принадлежит С.О. Шмидту, который назвал это направление “источниковедением историографии” . Примером такого междисциплинарного исследования является кандидатская диссертация А.В. Мельникова, изучившего взаимосвязи “лаборатории” ученого с формированием научного архива . Следует учитывать, что источниковедение историографии не рассматривает историко-культурную проблематику, поэтому оно может быть лишь отправной точкой в изучении феномена научного архива как формы мемориализации и репрезентации.
Научные архивы не рассматривались и в рамках изучения мемориализации, исследователи которой, как правило, сосредотачивают свое внимание на памяти, актуализирующейся в устных коммуникациях и культурном наследии . В работах М. Хальбвакса и П. Нора память противопоставляется истории . С начала 1990-х гг. память и история стали рассматриваться как параллельные феномены, что привело к изучению влияния памяти на историописание и исторический нарратив при совершенном игнорировании роли научных архивов в творчестве ученого .
Биография и научное наследие А.И. Михайловского-Данилевского нередко были предметом специального исследования. В первой биографии ученого Л. Брант, опираясь на послужной список, сочинения и опубликованные мемуары ученого, воспоминания его близ-кого друга А.Т. Ильина и родственников, попытался охарактеризовать личность историка . В 1890-х гг. Н.К. Шильдер вводит в научный оборот “Журналы” Михайловского-Данилевского (так он называл свои дневники), на основе их составляет более полную биографию ученого, переоценивает его вклад в военную историю Александровской эпохи и указывает на значение его научного архива . Работы Л. Бранта и Н.К. Шильдера стали основой для дореволюционных энциклопедических изданий и последующего изучения биографии ученого.
Параллельно шло освоение научного наследия А.И. Михайловского-Данилевского. Начиная с книги 1855 г. И.П. Липранди, рассмотревшего причины поражения французской армии в России , развивается критическое отношение к произведениям Михайлов-ского-Данилевского .
Советской историографией были выработаны более взвешенные оценки научного наследия Михайловского-Данилевского. Л.Г. Бескровный первым среди советских историков составил биографию Михайловского-Данилевского, уделив основное внимание “Описанию Отечественной войны” . К недостаткам работы Бескровного следует отнести то, что он оценивает сочинения ученого с точки зрения принципов историописания XX в., требуя от историка источниковедческого анализа, диалектического подхода и достоверности, представления о которых сложились лишь в период главенства позитивизма.
Глубже исследуются отдельные стороны научной деятельности историка в работах А.Г. Тартаковского, И.А. Желваковой, Л.И. Бучиной. Тартаковский установил, что Михайловский-Данилевский оставил наибольшее количество воспоминаний, чем кто-либо иной из участников войны 1812-го года . С целью изучения функционирования мемуаристики в культуре XIX в. А.Г. Тартаковский изучил архивное наследие ученого. Его наблюдения над научным архивом Михайловского-Данилевского не лишены отдельных неточностей. В целом же Тартаковский рассматривает ученого как одного из творцов “...верноподданнических и охранительно-националистических установок”.
И.А. Желвакова изучила вопрос публикации А.И. Герценом за грани-цей выписок из “Журналов” Михайловского-Данилевского . Дневники за 1814-1815 г.г. Михайловского-Данилевского стали объектом исследования Л.И. Бучиной . В обеих работах изучается процесс создания и бытования “Журналов” после смерти историка.
Начиная с 1987 г., когда праздновалась 175-я годовщина Отечественной войны, возрос интерес к творчеству А.И. Михайловского-Данилевского. В кандидатской диссертации С.А. Малышкина “Русский военный историк А.И. Михайловский-Данилевский и его “Описание Отечественной войны в 1812 году”” (М., 1990) изучена часть научного архива ученого, хранящаяся в РГВИА. С.А. Малышкину принадлежат и первые специальные работы об архиве историка, в которых основное внимание уделяется вопросам дробления собрания и определены направления дальнейшего выявления документов и реконструкции научного архива . Значительный корпус материалов научного архива Михайловского-Данилевского, хранящийся в Российской национальной библиотеке (РНБ), был изучен А.И. Сапожниковым . Публикации этих исследователей, разработавших отдельные вопросы жизни и творчества ученого, обеспечили возможность целостного исследования биографии, научного творчества и архива Александра Ивановича.
Объектом диссертационного исследования является научный архив как социокультурный феномен.
Предметом исследования является формирование и социокультурное функционирование научного архива на примере архива А.И. Михайловского-Данилевского (первая половина XIX в.).
Цель диссертационного исследования заключается в выявлении характеристик научного архива как социокультурного феномена, факторов, определяющих его возникновение, развитие, институциализацию в контексте процессов мемориализации на примере типологически значимого для российской культуры первой половины XIX в. архива А.И. Михайловского-Данилевского.
Задачи исследования: Для достижения поставленной цели автор решает следующие задачи:
1. На основе имеющихся в научной литературе разработок, посвященных процессам мемориализации, выявить методологические принципы и основания, значимые для изучения феномена архива в данном контексте;
2. Выявить и подвергнуть теоретическому анализу факторы, влияющие на возникновение и развитие научного архива как особого социокультурного феномена;
3. Реконструировать состав научного архива А.И. Михайловского-Данилевского как феномена культуры своей эпохи;
4. Провести анализ социокультурного функционирования научного архива А.И. Михайловского-Данилевского.
Источниковедческий обзор. В диссертации использовались две группы источников: опубликованные и неопубликованные.
Издание «Журналов» А.И. Михайловского-Данилевского было возобновлено лишь в 1990 г. А.Г. Тартаковским и Л.И. Бучиной, опубликовавшими «Журнал 1813 года» . В 2001 г. А.И. Сапожниковым были изданы «Журналы» за 1814 и 1815 гг. . Публикация этих журналов позволила рассмотреть первый этап формирования научного архива Александра Ивановича периода Заграничных походов русской армии 1813-1815 гг.
Помимо публикаций дневников, значительную ценность для определения личностных характеристик А.И. Михай-ловского-Данилевского представляют свидетельства его друзей и знакомых, например, дневники и письма Н.И. Тургенева и письма А.Ф. Бриггена .
Неопубликованный научный архив А.И. Михайловского-Данилевского рассредоточен по пяти хранилищам: Российский Государственный военно-исторический архив (РГВИА. Ф. 241, 474, ВУА), Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПб ФА РАН. Ф. 295), Рукописный Отдел Института русской литературы (РО ИРЛИ. Ф. 527), Рукописный отдел Российской Национальной библиотеки (РО РНБ. Ф. 488), Научный архив Музея А.В. Суворова в Санкт-Петербурге.
Среди неопубликованных материалов основным источником для изучения служебной деятель-ности Михайловского-Данилевского стали формулярные списки ученого и материалы из дел, заведенных в Инспекторском департаменте Военного министерства по поводу направления Михайловского-Дани-левского в Польшу в 1831 г., награждении русскими и иностранными орденами и т.д.
В личном фонде ученого в РО ИРЛИ изучались записи Михайловского-Данилевского по русской истории, составленные во время учебы в университете, его переписка за 1815-1845 гг. В письмах постоянных корреспондентов — начальника Главного штаба П.М. Волконского, партизана Д.В. Давыдова, генерала П.П. Коновницына и др. содержатся ценные сведения о формировании и использовании научного архива Михайловского-Данилевского уже в 1810 - 1820-х гг.
В личном фонде Михайловского-Данилевского в ОР РНБ к исследованию привлекались “Журналы” и переписка историка, которые представляют наибольший интерес для изучения формирования традиции фиксирования исторических событий.
Наиболее важным для исследования является эпистолярная группа, которая хранится в личном фонде историка в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, в т.ч. значительное число писем его друзей А.Т. Ильина, Г.С. Лошкарева и родственников. Большой комплекс писем отложился также за 1836-1839 гг., когда ученый работал над “Описанием” войны 1812-го года.
В ряде фондов РГВИА нам выявлен наибольший комплекс материалов, повествующих о создании историком научных трудов, и особенно о его лаборатории творческой мысли. Среди них переписка ученого о допуске в архивы и, что наиболее важно, о копировании документов; об издании “Описа-ний” войн и др. К исследованию привлекались отдельные дела, собранные из материала по истории Отечественной войны, Заграничных походов русской армии в 1813-1814 гг. и т.д.
В РГВИА наше внимание привлекли, среди прочего, неопубликованные «Материалы, служащие к Опи-санию войны 1812 года» (копии документов, выписки, воспоми-нания об Отечественной войне) из научного архива Михайловского-Данилевского . Окончательный вариант описания истории Отечественной войны 1812 г. хранится также в РГВИА . На нем имеются много-численные пометы Николая I, которые позволяют представить ход редакторской работы.
Фронтальное исследование архивных фондов, в которых хранятся, и потенциально могли быть выявлены архивные материалы ученого, позволили отследить этапы распыления целостного комплекса его научного архива как последствия многочисленных обращений современников, ученых последовавших эпох, а также покупки его бумаг после кончины Михайловского-Данилевского, и даже кражи. Так, значительную часть бумаг Михайловского-Данилевского приобрел Н.К. Шильдер. В его фонде в ОР РНБ хранятся документы, относящие-ся к созданию исторических описаний войн 1805, 1806-1807, 1809 гг. .
История разборки, систематизации и распределения по архивам бумаг Михайловского-Данилевского восстановлена на основе научно-справочного отдела Военно-топографическое депо (далее — ВТД) . Здесь была выявлена “опись рукописным материалам, оставшимся после смерти генерал-лейтенанта Михайловского-Данилевского”, на которой указаны номера дел, поступив-ших в архив ВТД. В фондах Военно-ученого комитета и архива Военно-ученого ар-хива (далее — ВУА) выявлены сведения о хранении документов историка в последующие годы . Историко-архивное исследование, предпринятое во второй главе, наглядно отражает отслеженные нами процессы реструктурирования архива.
Методологическая основа исследования. Междисциплинарный характер темы обуславливает необходимость комплексного методологического инструментария, использования нескольких подходов к ее изучению: метода исторической реконструкции, метода исторической культурологии, компаративного в сочетании с системно-структурным подходами к архивоведческой части исследования. Автор исходит из признания за герменевтическим подходом определяющей роли в изучении специфики гуманитарного знания, в нашей теме - феномена возникновения научного архива на основе традиционной для XVIII в. повествовательной практики историографии войны. Благодаря именно коллекционированию делопроизводственной документации, а также личному мемуаротворчеству ее собирателя произошло преобразование «рассказа о войне» в полноценное научно-историческое исследование военной истории первой трети XIX в. Исторический ракурс темы потребовал использования, наряду с названными, историко-описательного, системно-аналитического, биографического и биобиблиометрического методов исследования. Только так, на наш взгляд, можно познать господствовавшую в теории познания на всем протяжении Нового времени гносеологическую парадигму с позиций современного онтологического понимания проявления сущности феномена научного архива на всем протяжении истории его функционирования.
Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в разработке приемов историко-культурного изучения практик функционирования научного архива, что позволяет определить новое направление изучения мемориализации и коллекционирования в контексте развития научного творчества и институциализации научных направлений и школ в исторических исследованиях в России в предметном поле военной истории. Благо именно Михайловским-Данилевским это поле было выделено как самостоятельное. Ценным результатом диссертационного исследования представляется всесторонняя реконструкция архива А.И. Михайловского-Данилевского и процесса его распыления, что позволяет также расширить круг источников, характеризующих особенности личности исследователей военной истории первой трети XIX в.
Практическое применение работы . Сформулированные в диссертации положения, идеи и выводы могут быть направлены на дальнейшее развитие теории культурной памяти и процессов мемориализации и методов их анализа.
Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в научной и преподавательской деятельности, при разработке курсов истории культуры, отечественной истории XIX века, историографии и архивного дела.
Положения, выносимые на защиту :
1. Научный архив является особым культурным институтом, характерными чертами которого являются особый тип комплектования и учета документов внутри фонда и открытость для специалистов.
2. На определенном этапе процесс мемориализации исторической памяти необходимо включает возникновение научного архива, посредством которого обеспечивается трансляция культурных практик и техники исторического «письма»; отслеживается авторский корпус научного сообщества; фиксируются отклики общественной и научной мысли на событийный ряд истории и его интерпретации.
3. Возникновение научных архивов в первой половине XIX века в России стало существенным явлением в контексте процессов мемориализации, а также с точки зрения их социокультурного значения для последующего развития отечественной науки.
4. Одним из наиболее ярких и полных примеров научного архива как особого социокультурного института стал архив А.И. Михайловского-Данилевского, одного из первых российских коллекционеров-историков, являющегося первым коллекционером документальных свидетельств войны 1812 г. и одновременно ее первым «историописателем».
5. Разработанная в ходе коллекционирования двухуровневая система учета документальных свидетельств по истории войн определила в качестве генерального историко-архивоведческий подход А.И. Михайловского-Данилевского к изучению устной и документальной памяти о военных действиях. Это, в свою очередь, определило устойчивость в его практике мемориализации такого типа исторического «письма» как «описание».
6. Переход от номинального собирательства к тематическому коллекционированию, а затем к профессиональному формированию научного архива, повлек за собой новые подходы историка к изучению мемуарного наследия, что повлекло за собой создание собственной оригинальной модели историописания.
7. Научный архив А.И. Михайловского-Данилевского стал первоосновой мемориализации исторической памяти и исторического знания о военной истории России первой половины XIX в.
8. Культурологическая парадигма феноменологии научного архива - сложный, наукоемкий, но и наиболее продуктивный путь к постижению феномена самоорганизации архива историка, такой, при которой динамика внешних воздействий на него не может нарушить его «внутреннее состояние» (принципы и методы собирательства, коллекционирования и научно-архивоведческой обработки самим историком), не может разрушить «архивный след», даже если архив был расформирован, потерян, исчез как «физическое целое».
Апробация диссертационного исследования: Диссертационное исследование было обсуждено и рекомендовано к защите на заседании Сектора культурологических проблем социализации Российского института культурологи. Основные положения и выводы диссертации изложены статьях, тезисах и выступлениях на научных конференциях.
II. Основное содержание работы
Диссертация изложена на 180 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, включающего 70 наименований на русском языке и 20 на иностранном.
Во Введении обосновывается актуальность избранной темы, анализируется степень изученности рассматриваемой проблематики, сформулированы объект и предмет исследования, определяются цели и задачи, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследования.
Первая глава “Научный архив в контексте институциализации процессов мемориализации в отечественной культуре первой половины XIX века”.
В первом параграфе «Мемориализация как основание общего пространства социокультурного опыта» мемориализация описывается как взаимосвязь трех составляющих: обращения к прошлому, идеологического воображения, обращенного к настоящему, и складывания социокультурной традиции. Практическая организация этих составляющих предстает как институциализация процессов воспоминаний, выработка идентичности и складывание механизмов культурной преемственности. Так в культуре возникает тот “символический мир смысла”, что связывает человека с его современниками, образуя общее пространство опыта. Даже если исторические сюжеты удалены во времени, все равно возможно говорить об общем (в том числе и для современных россиян), пространстве опыта, например, о войне 1812 года.
Это общее пространство опыта выражается в следующих составляющих: 1) общие навыки временной, пространственной и символической ориентации: знание хронологии, знание социокультурной маркировки и т.п.; 2) общие формы деятельности: от участия в исторической реконструкции, как предельной формы общего опыта, до символизированных детских игр или форм почитания; 3) взаимное доверие на основе признания общности опыта и навыков с ним связанных, и общее ожидание результатов опыта, следующее из взаимного доверия.
Исторической формой культурного института, связанного с процессами мемориализации, в первую очередь с институциализацией процессов воспоминания, является научный архив. Появление научного архива закономерно на определенном этапе социокультурного развития.
Второй параграф “Научный архив как социокультурный институт ” содержит обоснование выделения следующих критериев научного архива как самостоятельного культурного института: 1) функцией культурного института является решение социально значимой задачи. В данном случае эти задачи определяются процессами мемориализации; 2) культурный институт является необходимым условием общественной жизни, и деятельность его обеспечивается исторической сменой событий; 3) культурный институт создает нормы и образцы поведения, устанавливаемые в социокультурной жизни (в данном случае - не просто нормы и образцы поведения ученого-историка, но и стандартные формы такого поведения); 4) институт конструирует структурные и коммуникационные связи в обществе; 5) для структуры самого института характерны упорядоченность и специфичность.
В третьем параграфе “Научный архив в российской культуре конца XVIII - первой половины XIX вв. ” путем сравнительного анализа показывается, что всем ранее установленным критериям культурного института соответствует тот тип научного архива как культурного института, который возник в результате деятельности А.И. Михайловского-Данилевского.
Фактором, повлиявшим на возникновение в отечественной культуре феномена научного архива, являются конфликт влияния западноевропейских просветительских идеологий и дискутирования проблемы войны и мира и противопоставляемой им охранительной государственнической идеологии. Стремление сформировать российскую культуру как «оперативно закрытую систему» (определяя терминами семиотической концепции Н.Лумана), наиболее характерно для царствования Николая I , выступавшего заказчиком работ Михайловского-Данилевского. Цель такого заказа может быть определена как выработка оригинального культурного кода описания отечественной истории. Важна также роль личностных характеристик ученого, в первую очередь его аристократизм и дендизм.
Вторую главу “А.И. Михайловский-Данилевский: формирование авторских стратегий военного и придворного историка” открывает краткая справка о жизни ученого до Отечественной войны 1812 г. После учебы в Петропавловской школе в Петербурге А.И. Михайловский-Данилевский с мая 1808 г. по июнь 1811 г. обучался в Гёттингенском университете. По возвращении в Россию был принят на должность помощника ученого секретаря в канцелярии Мини-стерства финансов, где наряду с карьерой чиновника намеревался посвятить себя изучению проблем государственного кредитования.
Первый параграф “Служебная деятельность коллекционера-историка и номинальный принцип систематизации документов его архива” начинается с анализа его службы в составе столичного ополчения. Благодаря знакомству он был принят в штаб ко-мандующего петербургским ополчением М.И. Кутузова, где в короткий срок выработал собственный стиль поведения. Университетское образование, научная деятельность и дендизм (как стиль поведения), позволили ему дистанцироваться по отношению к окружающему и окружающим. С самого начала службы Михайловский-Данилевский утвердился в положении “беспристрастного” наблюдателя.
В связи с назначением Кутузова главнокомандующим русскими войсками, Михайловский-Данилевский оказывается в действующей армии, где исполняет обязанности адъютанта полководца. Неизбежные конфликты между ним и другими помощниками в окружении главнокомандующего удалось преодолевать благодаря тому, что Михайловскому-Данилевскому было поручено конкретное дело - составление “Журнала военных действий”. Этот отчетный документ рассматривался и автором, и некоторыми современниками как историческое сочинение (историческими называли в то время не только исследовательские, но и компилятивные, и фактографические работы). Поэтому П.П. Коновницын назвал автора “Журнала военных действий” “историогра-фом армии”.
Будучи в составе штаба армии, Михайловский-Данилевский стал свидетелем крупнейших битв Отечественной войны 1812 г. В Тарутинском сражении он был ранен. После выздоровления вернулся в штаб, где вновь был востребован как незаменимый специалист по ведению отчетной документации - “Журнала военных действий”. Кутузов поручил ему также составление на русском, немецком и французском языках “Известий о наших военных действиях”, своеобразных публицистического характера очерков, рассчитанных на европейского читателя. Полководец сам правил отдельные “известия”, считал изданные и некоторые из них читал Александру I, не забывая при этом рекомендовать царю их составителя как отличного чиновника.
В период службы Михайловского-Данилевского в Главной квартире императора Александра I он увлекся составлением биографий военачальников П.П. Коновницына (в апреле-мае 1813 г.) и М.И. Кутузова (летом 1814 г.). Основным биографическим источником послужили собственные и чужие мемуары, которые историк записывал в свои “журналы”, что, на наш взгляд, можно интерпретировать как свидетельство преобладания личностной репрезентации в плане жанра мемуарных источников над репрезентацией исторических событий, военных действий в 1812-1814 гг. Оказавшись в Москве, Михайловский-Данилевский сразу же издает в виде журнальных публикаций фрагменты своих мемуаров о заграничном походе русской армии в 1813-1814 гг.
В 1823-1831 гг., после отставки от должности в Главной квартире императора Александра I , занятость на службе и удаленность от Петербурга не позволяли Михайловскому-Данилевскому существенно пополнять свой научный архив. Но он продолжает интересоваться военной историей царствования Александра I . Издатели журналов неоднократно предлагают ему опубликовать свои воспоминания об Александре I и минувшей войне.
Таким образом, совершенно очевидно, что в этот период исторический источник определял род занятий историка, от собирательства и коллекционирования документов до пробы пера в разножанровых практиках историописания (известие, описание, воспоминания, биография).
Второй параграф “Научная деятельность военного историка в период следования тематическому принципу систематизации документов в составе личного архива” охватывает период после ухода с государственной службы до смерти исследователя, 1831-1848 гг.
Выйдя в отставку, Михайловский-Данилевский всецело погрузился в научно-исследовательскую и издательскую деятельность. Издал свои воспоминания о походах 1814-1815 гг. , приступил к написанию “Записок о походе 1813 года”, которые стали первым “историческим сочинением” ученого. Эти историографические труды основывались уже не только на собственных и чужих мемуарных свидетельствах, но включали большой пласт делопроизводственных материалов, что позволило Михайловскому-Данилевскому постепенно “вывести” автора из повествования и выработать элементы научно-исследовательского аналитического подхода к объекту описания, то есть вплотную подойти к осознанию принципов построения научного текста. Впрочем, тогда, в начале 1830-х годов, научность не означала в его понимании объективности, что, в частности, отмечали современники, говорившие, что в “Записках о походе 1813 года” автор особое внимание уделил тем, кто был у власти в 1830-е гг. в ущерб описания подвигов героев войны.
Новые принципы историописания повлияли на состав личного архива Михайловского-Данилевского, принцип комплектации его научной части, в которую начинают вливаться, причем в значительном объеме по числу страниц и названий, копии и выписки с документов архивов Собственной его императорского величества канцелярии, Военного министерства, Министерства иностранных дел, ведомтсвенных и губернских архивохранилищ, а также личных и семейных собраний документов.
В ходе работы над “Описанием похода во Франции в 1814 году” (СПб., 1836), “Описанием Отечественной войны в 1812 году” (СПб., 1839. Ч. 1-4) происходит значительное (по сравнению с предварительными и ранними журнальными публикациями фрагментов) расширение источниковой базы каждого из этих исследований. Работая над историей похода 1814 г., историк проделал большую самостоятельную работу по выявлению и собиранию воспоминаний его участников, которые затем включал в текст исторического повествования в виде самостоятельных фрагментов (“хрестоматийных текстов”). Этот прием получит затем развитие в учебных и учебно-методических изданиях середины - второй половины XIX в.
Принцип собирательства всего, что хоть как-то было связано с военной историей, еще более укоренился, когда А.И. Михайловский-Данилев-ский работал над историей Финляндской войны 1808-1809 гг. Он привлек к исследованию практически все архивные материалы, хранившиеся в ту пору в остзейских губернских архивах и на территории самой Финляндии. В этой работе ему помогали частные лица, коллекционеры-любители, приобретавшие за границей приказы, рапорты, прокламации, изданные шведскими военачальниками в годы войны, другие материалы, все, что могло заинтересовать ученого. Вместе с тем, большой объем поступавших документов заставил впервые серьезно задуматься о принципах их хранения и систематизации в составе научного архива.
Заканчивая работу над историей русско-турецкой войны 1806-1812 гг., Михайловский-Данилевский предложил Николаю I “...со-вершить для славы России великий труд: описать 25-ти летнее царст-вование Александра во всем пространстве: в отношении гражданском, внешней политике и военном”. Но ему было поручено написать лишь историю русско-французских войн 1805 и 1806-1807 гг.
В 1840-е годы военное министерство и лично император предоставили А.И. Михайловскому-Данилевскому беспрепятственную возможность изучать личные архивы военачальников Александровской эпохи: князя Х.А. Ливена, М.И. Кутузова и др.
Научная работа была прервана смертью во время эпидемии холеры, 9 сентября 1848 г. Если бы не скоропостижная кончина, возможно Михайловский-Данилевский окончательно преодолел стиль и слог “описания”, перейдя к научной аналитике с присущей ей “прописью” цели, задач, методов исследования.
Третья глава “Научный архив А.И. Михайловского-Данилевского и его судьба в истории исторической науки и культуры” содержитанализформирования, комплектования и систематизации научного архива А.И. Михайловского-Данилевского, она посвящена также феномену его архивного наследия в истории науки и культуры.
В первом параграфе рассматриваются этапы формирования научного архива А.И. Михайловского-Данилевского, “первоосновой” которого стал личный архив отца, Ивана Лукьяновича, содержавший наряду с хозяйственными бумагами по управлению поместьями “ученые бумаги” по вопросам истории финансирования и кредитования, а также переписку с А.С. и М.А. Милорадовичами.
Целенаправленная комплектация личного архива Михайловского-Данилевского его личной перепиской и дневниками, конспектами лекций, а также разного рода материалами по истории началась со времени его поездки в Гёттингенский университет.
В период Отечественной войны 1812 г. в его архиве откладываются дневники, в которые он записывает свидетельства участников тех или иных событий, военных операций, а также черновики отдельных документов и переписка с друзьями, участниками войны. В первые послевоенные годы научный архив Михайловского-Данилевского по-прежнему комплектуется преимущественно материалами переписки и дневниковыми записями. Перед свадьбой в 1817 г. Михайловский-Данилевский проводит ревизию архива, исключает из него некоторые личные документы: письма, сочинения, переводы, проекты и стихотворения.
Научную часть личного архива историка тех лет можно условно разделить на три группы. К первой относятся материалы, созданные им самим: перечни выявленных архивных документов; записи о просмотренных документах; предвари-тельные расчёты численности войск, дислокации русской армии и проч. Такие записи делались Александром Ивановичем при создании каждого “описания” войны. Вторую группу образуют копии архивных документов и текущего делопроизводства, причем численность копий, сде-ланных для отдельных трудов, значительно разнится: документы центральных ведомственных архивов Михайловский-Данилевский копировал выборочно, а докумен-ты местных архивов копировались и доставлялись к нему в полном объеме содержавшихся в них материалов по профильной тематике. Третью группу образуют мемуары участников войн России конца XVIII — первой трети XIX в., Михайловский-Данилевский начинает собирать их с 1816 г. Наибольшего размаха работа по сбору воспоминаний приобрела в 1836-1839 гг., когда он работает над “Описанием Отечес-твенной войны в 1812 году”. Учёный обращается с просьбами о присылке рукописей не только к частным лицам, но и в местные органы власти, а также в церковное ведомство. На протяжении нескольких лет в его архив поступают воспоминания участников минувших сражений из числа помещиков, переживших фран-цузскую оккупацию в Белоруссии, священников приходских церквей Московской, Смоленской, Калужской губерний и др.
В период активной научной деятельности в архиве Михайловского-Данилевского собирается значительный комплекс переписки. По составу авторов, периодичности получения писем от коррес-пондентов и по содержанию переписка этого времени отлича-ется от предшествующего периода. Основная масса корреспондентов участвует в переписке в связи с работой историка над тем или иным произведением. Как правило, ему пишут одно, редко два письма, но каждое чрезвычайно информативно по содержанию. Эти письма содержат фактические и мемуарные сведения, указания на архивные материалы и наличие документов у тре-тьих лиц. Как правило, Михайловский-Данилевский поддерживал переписку со своими постоянными корреспондентами, что свидетельствует о сформировавшемся вокруг него круге историков-любителей, подвижников исторических изысканий. Их письма охватывают большой круг вопросов и носят доверительный характер. Письма родственников этого период в его архиве редки, возможно потому, что он живет уединен-но, но в кругу семьи. Ему пишут сыновья, служившие в те годы армии.
Личная и хозяйственная документация в архиве малочисленна, ее едва ли можно выделить в самостоятельную группу, да и сам историк этого не делал. Если в 1820-1830-е годы это до-несения деревенских старост, то впоследствии начинают преобладать материалы, связанные с расходами на книгоиздание, а также отдельные гонорараные листы. В последние годы жизни историк составил несколько вариантов духов-ного завещания. В архиве хранятся также письма, духовное завещание, хозяйст-венные документы жены, Анны Павловны, и тещи — К.И. Чемодановой.
Ученый собирал не только документы по военной истории, но и хранил частные материалы П.М. Волконского, П.Х. Витгенштейна, И.Ф. Паскевича, И.И. Дибича, П.П. Коновницына и др. Эта часть его архива, она относительно небольшая, не подвергалась специальному изучению, поскольку еще не завершен процесс ее выявления в составе других фондов, куда она попала после смерти историка.
Самостоятельную группу материалов образует значительный по объему комплекс доку-ментов из архивов Военного министерства, Генерального штаба, Мини-стерства иностранных дел, Морского министерства и других учрежде-ний и ведомств. Эти материалы были предоставлены историку в пользование при работе над историей войн: русско-французской 1799 г., русско-персидской 1804-1813 гг., русско-прус-ско-французской и русско-австро-французской войн.
Анализ процесса комплектования и систематизации документальных материалов в составе научного архива историка позволил выявить культурный феномен целенаправленного собирательства и коллекционирования, а также специфические особенности отношения собирателя и собственника архива к себе самому, а также к окружающим его лицам и тем, кто так же, как он, был увлечен военной историей.
Во втором параграфе рассматриваются принципы систематизации архива, в выработке которых выделены два этапа: до и после начала актив-ной научной деятельности.
На протяжении всего периода комплектования архива ученый систе-матизировал документы, в первую очередь, по номинальному признаку. Семейную переписку историк отделял от переписки с другими лицами. Письма, полученные от знакомых, он систематизировал по хроно-логическому принципу, поэтому каждое дело включало письма разных лиц. Все дела с письмами были переплетены, пронумерованы, письма также нумеровались. Семейная переписка делилась на разделы.
С началом научной деятельности изменился по-рядок систематизации документов и оформления дел, что было обусловлено объемом работ, значительным коли-чеством и видовым разнообразием документов, поступавших в архив. Основным принципом систематизации остается номинальный: научные тру-ды (черновые и беловые), переписка, воспоминания участников войн и т. д. Переписка группируется по тематическому признаку в соответствии с названием той или иной научной работы. Дела с письмами пере-плетаются в мягкие обложки или хранятся в “обертке”, но имеют оглавление. Мемуары хранятся отдельно, вместе с сопроводительным письмом, имеют нумерацию. Лишь иногда они включались в дела с перепиской.
В третьем параграфе рассматривается судьба научного архива А.И. Михайловского-Данилевского после его смерти. Работа Михайлов-ского-Данилевского в архивах Министерства иностранных дел, Военного министерства и других ведомств, а также присылка к нему архивных дел во временное пользование создали прочное мнение у военного мини-стра А.И. Чернышева о наличии у учёного ценнейших секретных материалов по русский воен-ной истории. Император же считал, что ученый находился на службе и, следовательно, выполнял свои служебные обязанности в виде составления “описаний”, следовательно, его переписка и бумаги относятся к служебным документам. После смерти ученого его кабинет был опечатан. Описание научного архива осуществляла Комиссия под руководством директора Военно-топографи-ческого депо П.А. Тучкова, за работой комиссии следил император.
Первоначально предполагалось разделить весь архив на докумен-ты “государственные”, семейные и личные. В ходе работы комиссия разработала иную классификацию: 1) семейные документы, 2) взятые историком во временное пользование из архивов для завершенных и незавершенных работ; 3) рукописи его работ; 4) воспоминания и документы частных лиц, переданные историку во временное пользование.
8 октября 1848 г. комиссия завершила работу и представила А.И. Чернышеву отчет и 12 описей. При классификации документов комиссия придерживалась темати-ческого признака, но при составлении описей № 1, 7, 8, 10 она исходила из принципа авторства документа, чем существенно запутала будущих исследователей и историков-архивистов, занимавшихся реконструкцией архива ученого. Соединение нескольких принципов классификации предопределило последующее дробление научного архива. Документы, взятые из ведомств и использованные в опубликованных произведе-ниях, возвращались по их принадлежности. В Военно-топо-графическое депо следовало сдать материалы, числящиеся по описи № 3: рукописи сочинений с пометами Николая I и черновые материалы к ним; документы из частных архивов; рукопись “Описания” войны с Францией в 1799 г. со всеми собранными сведениями; подготовитель-ные материалы к работе о русско-иранской войне 1804-1813 гг. Материалы для полковых историй поступали в ар-хив Инспекторского департамента. Наследникам передавались биографии генералов-участников Отечественной войны 1812 г. Родственникам надлежало оставить также “чисто литературные” произведения.
Впоследствии дела из научного архива Михайловского-Данилевского неоднократно пересистематизировались. В частности, в связи с реформой архива Военно-топографического депо в 1867 г. докумен-ты были систематизированы по предметно-хронологическому признаку с расшивкой “сложных или смешанных” дел. Определенной угрозой для сохранности научного архива стали невозвращение дел в архивы и кража, что было обусловлено недостатками в уче-те и хранении. Некоторые украденные из ВУА документы позже были приобретены Н.К. Шильдером.
Судьба той части научного архива историка, которая оставалась у наследников, оказалась достаточно сложной. После его смерти документы оставались в семье у его дочери Антонины Александровны. Затем они стали расходиться по частным и государственным архивам при посредничестве В.Ф. Дризена и Н.К. Шильдера. Некоторые из дел этой части архива до сих пор не найдены.
В 1906 г. в архив Академии наук поступило собрание историка Н.Ф. Дубровина, включавшее письма различных лиц к Михайловскому-Данилевскому, в 1938 г. архив приобрел папку с документами ученого. На их основе был сформирован личный фонд Михайловского-Данилевского, в который вошли научные работы отца ученого и документы самого Александра Ивановича, а также переписка. В РГВИА также имеется личный фонд А.И. Михайловского-Данилевского (Ф. 1266), поступивший в 1955 г. из ЦГАЛИ СССР. В 1951 г. документы Михайловского-Данилевского в ОР ИРЛИ прошли научно-техническую обработку, и из них был сформирован личный фонд ученого. Таким образом, процесс реконструкции личного и научного архива историка нельзя считать завершенным.
В заключении подведены итоги исследования и сформулированы основные выводы, которые позволяют подтвердить правомерность выносимых на защиту паоложений.
1. А.М. Михайловский-Данилевский о культуре военных исследований // Науки о культуре - шаг в XXI век: VII Всерос. конф.-семинар молодых ученых, 8-9 дек. 2005 г. - М., 2006. - С. 327-335.
2. На бивуаках русской армии, 1806-1807 гг. // Досужий мир: отдых как форма культурного диалога. - Орел, 2006. - С. 96-100.
3. “Надеясь принести России честь, а себе славу” // Национальная безопасность. Правовые, социокультурные и экономические основы: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Домодедово, 6-10 февр. 2006 г. / [редкол.: Е. Н. Сафонов (отв. ред.) и др.]. - М., 2006. - С. 191-193.
4. Научный архив военного историка в предметном поле истории национальной безопасности // Национальная безопасность. Правовые, социокультурные и экономические основы: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Домодедово - Москва, 29 янв. - 4 февр. 2007 г. - М., 2007 (в печати ).
5. Социокультурные практики мемориализации военной истории: (на примере научного архива А.М. Михайловского-Данилевского) // Известия Тульского государственного университета. Сер. “История и культурология”. - Тула: ТулГУ, 2006. - Вып. 6. (в печати )
6. Феномен журнальных публикаций дневников А.М. Михайловского-Данилевского в историографии войны 1812 года // Периодическая печать как источник интеллектуальной истории: материалы Междунар. науч. конф. (Пятигорск, 28-30 апр. 2006 г.) / [редкол.: Т. А. Булыгина и др.]. - Пятигорск, 2006. - С. 79-83.
7. Феномен научного архива А.И. Михайловского-Данилевского в контексте мемориализации истории войн первой четверти XIX в. // Культура&общество [Электронный ресурс] : интернет-журнал МГУКИ. - Электрон. журн. - М., 2006. - Режим доступа: http://www.e-culture.ru/Speakers.htm .
8. Феномен научного архива А.И. Михайловского-Данилевского в контексте мемориализации истории войны 1812 года // Вестник Ставропольского государственного университета. Сер. “История и культурология”. - Ставрополь: СтавГУ, 2007. - Вып. 48.
2001; Хаттон П.Х. История как искусство памяти / пер. с англ. В.Ю. Быстрова. СПб., 2003.
Брант Л. О жизни и сочинениях Александра Ивановича Михайлов-ского-Данилевского // Полн. собр. соч. СПб., 1849. Т. 1. С. 1-37.
Шильдер Н.К. Александр Иванович Михайловский-Данилевский. По поводу столетней годовщины со дня его рождения. 1790-1848-1890 // Русская старина. 1890. № 11; Он же. А.И. Михайловский-Данилевский. К столетней годовщине со дня его рождения. 1790-1848. Пo неизданным запискам Михайловского-Данилевского и собранным им историческим материалам // Русская старина. 1891. № 9.
Липранди И.П. Некоторые замечания, почерпнутые преи-мущественно из иностранных источников, о действительных причинах гибели наполеоновых полчищ в 1812 году. СПб., 1855.
РГВИА. Ф. 395. Оп. 20. Д. 188; Оп. 27. Д. 774; Оп. 86. Д. 396; Оп. 143. Д. 109;
Оп. 144. Д. 122; Оп. 232. Д. 27; Ф.489. Оп. 1. Д. 7048.
Михайловский-Данилевский А.И. Записки 1814 года. СПб., 1831; Он же. Воспоминания: Из записок 1815 года. СПб., 1831.